|
Творческая личность и среда в области технических изобретений
П. К. Энгельмейер
Обложка книги
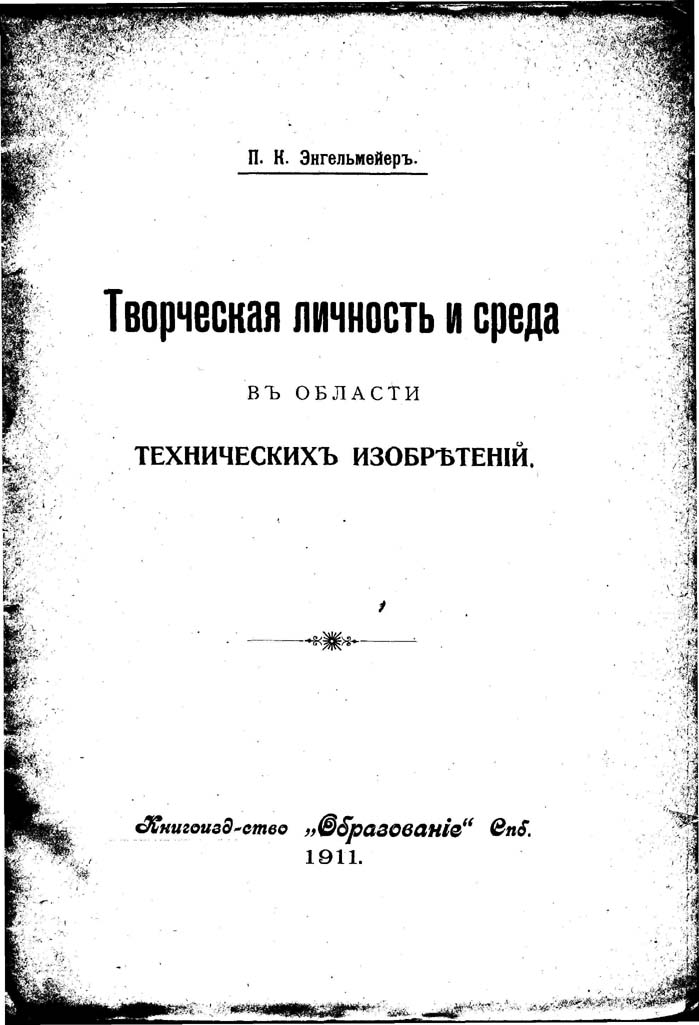
1911
Введение
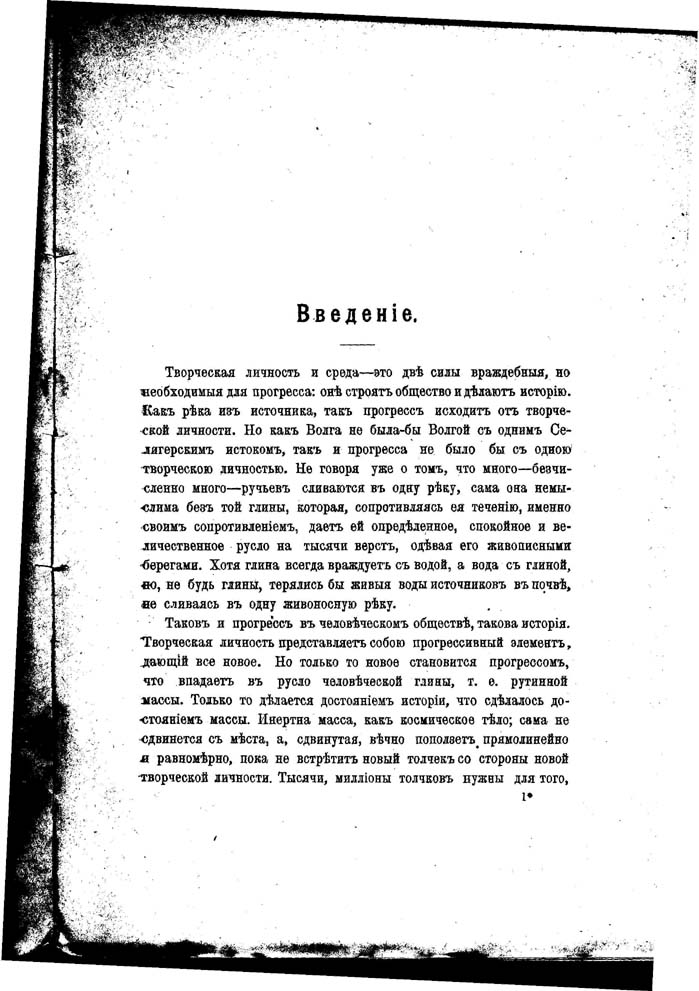
Творческая личность и среда - это две силы враждебные, но необходимые для прогресса: они строят общество и делают историю. Как река из источника, так прогресс исходит от творческой личности. Но как Волга не была-бы Волгой с одним Селигерским истоком, так и прогресса не было бы с одною творческою личностью. Не говоря уже о том, что много - безчисленно много - ручьев сливаются в одну реку, сама она немыслима без той глины, которая, сопротивляясь ее течению, именно своим сопротивлением, дает ей определенное, спокойное и величественное русло на тысячи верст, одевая его живописными берегами. Хотя глина всегда враждует с водой, а вода с глиной, но, не будь глины, терялись бы живые воды источников в почве, не сливаясь в одну живоносную реку. Таков и прогресс в человеческом обществе, такова история. Творческая личность представляет собою прогрессивный элемент, дающий все новое. Но только то новое становится прогрессом, что впадает в русло человеческой глины, т.е. рутинной массы. Только то делается достоянием истории, что сделалось достоянием массы. Инертная масса, как космическое тело; сама не сдвинется с места, а, сдвинутая, вечно поползет прямолинейно и равномерно, пока не встретит новый толчок со стороны новой - творческой личности. Тысячи, миллионы толчков нужны для того, чтобы сдвинуть массу и направить ее на новый путь, указуемый судьбою судеб. Но судьба судеб только указует новые пути, сама же не тронет пальцем, а масса слепа и не видит новых путей. Их видит только творческая личность и толкает на них массу; но массе свойствен закон инерции, она сопротивляется и преследует творческую личность зa то, что потревожена в своей инерции.
И вот, разыгрывается вековая драма истории: творческая личность видит, что новый путь неизбежен и толкает со всей своей силой. Но "действие равно противодействию";чем сильнее толчок, тем упорнее сопротивление. Жестока борьба эта и не знает жалости, как всякая борьба двух стихий. И борются, действительно, две стихии: творческая личность не может молчать о том, что для нея очевидно; но и масса не может не следовать законам-инерции. С обеих сторон здесь не то что добрая воля, а прямая неизбежность, как не может пуля, верно направленная изменнической рукой, не пробить благородное сердце.
Но почему же человечество ставит памятник тому, кого раньше сожгло на костре? А потому, что последующия события убедили его в правоте непризнаннаго проповедника. Всяким таким памятником, - имя же им легион, - человечество только лишний раз свидетельствует о том, что оно не более, как инертная масса. Вместе с тем этот памятник свидетельствует и о том, что пророк только тогда пророк, когда он, хотя бы и казненный, убедил массу в своей правоте...
Много - безконечно много - мыслей навевают эти слова: "творческая личность и среда". Есть ли что-нибудь интереснее этого вопроса? Но есть ли что-нибудь и многостороннее его? Ведь творческая личность и среда борются во всех закоулках человеческаго сожительства; ни на минуту эта борьба не прекращается и принимает тысячи форм. Здесь Христос восходит на Голгофу. Там Галилея заставляют отречься от очевидности. Здесь гибнет от нищеты Папин над недоконченным паровым цилиндром. Там сознательно отравляет радием свой организм молодой ученый, в целях изследования. А там возводятся ночью баррикады, которые на разсвете обагряются невинною кровью борцов за старое и за новое. И так до безконечности.
Насколько интересен вопрос о взаимодействии между творческой личностью и средой, настолько он и неразрешим на пути общих разсуждений. Его надо изучать во всех его проявлениях, заглядывать надо во все закоулки, где кишит человеческий муравейник. Нельзя вооружиться только телескопом; надо взяться и за микроскоп. Нельзя ограничиться биографиями Джордано Бруно, Наполеона, Толстого; надо окунуться в тину обывательской жизни, надо с любовью и терпением вглядеться в безымяннаго труженика, залепляющаго трещинку в ветхой стене; надо по достоянству оценить то - хотя микроскопическое, но всетаки - геройство, -с которым он делает свое маленькое, дорогое ему дело, несмотря на тысячи препятствй со стороны его среды, т. е. того, что называется общественным мнением, службой, досугом, кошельком, здоровьем.
Пусть же каждый из нас, свидетелей строительства жизни в какой угодно сфере, сообщает нам, что он там видел. Вот с какими мыслями автор настоящей книги взялся - не за перо, а - за пишущую машину. В течение многих лет автору приходилось иметь дело с техническими изобретателями. Заинтересовавшись ими, автор задумался над вопросом: от чего зависит успех и неуспех изобретателей? И вот автор решается разсказать, что он видел, читал и надумал по этому вопросу.
Предлагаемая книжка распадается, собственно, на три части: обсуждается здоровое изобретение, больное и воспитание творчества. Под названием здороваго изобретенья разумеется не только здоровое внутренно, но, кроме того, имеющее и наружный успех. Точно также в отделе больного изобретения разсматриваются как внешний неуспех, так и внутренние дефекты, до абсурда включительно. Везде обсуждаются условия, от которых зависят эти явления, и делаются выводы, выясняющие возможность противодействовать неблагоприятным условиям.
Что касается третьей части книжки, где говорится о воспитании творчества, то она предназначается для руководителей молодежи: родителей, воспитателей, педагогов. Под творчеством разумеется здесь: догадка, изобретательность, самодеятельность. Вопрос о воспитании творчества имеет огромное значение; он, кроме того, очень сложен и разносторонен, так как не существует одной способности к догадке, которая-бы проявлялась везде, как например не существует и одной воли, годной для всех случаев жизни. В виду этого в настоящей книжке вопрос о воспитании творчества затронут только в одном из частных его проявлений, а именно, в форме механической изобретательности.
Большое ли счастье быть изобретателем?
Скорее нет, чем да! Счастливым бывает изобретатель только тогда, когда заранее стекаются следующия условия: 1) творческий гений, 2) необходимые познания, 3) мастерство в обращении с материей, е) коммерческая жилка и знание людей и 5) удача. Если нет хотя-бы одного из этих пяти условий, то изобретатель бывает несчастен. Эти условия и разобраны в предлагаемой книжке.
Весьма распространенная ошибка начинается с того, что слово "изобретатель" прилагается к такому человеку, который вовсе не есть еще изобретатель, а только "изобретающий". В эту ошибку впадают часто потому, что придают слишком большое значениe одной идее и слишком мало значения ея выполнению. Расчленяя процессы выработки и распространения изобретений, мы доходим до правильной оценки всей той работы, которую требует выполнение идеи.
Если говорить о России и взять число подаваемых прошений о привилегиях, то, сравнивая с остальными промышленными государствами, придешь к заключению, что у нас изобретателей мало. Но за то у нас много "изобретающих". Каждая историческая эпоха, а в нашем столь быстро прогрессирующем отечестве-каждое десятилетие несет специальныя задачи, притягивающия, как магнить, творческие души. К таким задачам в разные времена принадлежали, частью принадлежат и теперь: воздухоплавание, подводные лодки, предотвращение столкновений поездов, униполярная динамомашина, велосипед и, наконец, "вечное движение". Мы здесь вовсе не касаемся еще политических и нравственно-философских сфер, где точно также много,-если еще не больше,-"изобретающих" на Руси.
Напасть на новую мысль очень легко. В русской национальности как будто даже заложено предрасположение к "перепроизводству новых идей". Жаль, что невозможна статистика в этом деле. Когда на новую мысль нападает спецалист по той области, к которой мысль принадлежит, то ему и книги в руки. Нечего ему давать советы. Он сам знает и пину своей мысли, и способы к ея осуществлению. Но на новую, и даже дельную, мысль может напасть и не-специалист, и в этом случае желательно, чтобы изобретатель и общество извлекли пользу из идеи, если она здоровая, а если она больная, то Желаниельно, чтобы ея автор поскорее ее покинул.
Не-специалист нередко верит в идею ложную, невозможность которой специалисту очевидна. Еще чаще он тратить силы и средства над вещью старой и давно брошенной. Учитывая всю ту массу растрачиваемых сил и средств, которые могли-бы направиться на болйе полезное, невольно приходишь к убеждению, что перед разными специалистами стоить серьезная, гуманная и патриотическая задача: приложить свои силы к тому, чтобы по возможности противодействовать указанной растрате сил и способствовать их более полезному направлению. Дальше, в своем месте будет указано, что делается у нас для фактической помощи изобретателям положительнаго типа. Но по отношению к изобретателям отрицательнаго типа не делается ничего. Пополнить этот пробел, хотя-бы и в очень скромных размерах, вот истинное назначение настоящей книжки. Остается только пожелать, чтобы и другие специалисты приняли в этом участие.
Что высказанные в предлагаемой книги мысли имеють некоторое общее значение, докавательством тому служит тот факт, что такое значение за ними признал Л.Н. Толстой. В первый раз автор высказал их в книге, изданной в 1897 г. и озаглавленной "Руководство для изобретателей". Ознакомившись с первыми листами печатавшейся книги, Л.Н. Толстой пожелал побеседовать с автором и выразил, на словах и письменно, солидарность со взглядом автора и с общей тенденциею книги, дозволив отпечатать в виде предисловия соответственное место из своего письма к автору. Вот это место:
П. К. Энгельмейеру.
Милостивый Государь!
Петр Климентич.
...Я просмотрел присланные вами листы вашей книги. Цель ея очень хорошая. Меня каждый год посещают несколько человек таких изобретателей, и всегда бывает очень жалко ненормальнаго душевнаго состояния, в котором они большей частью находятся, вследствие неестественнаго напряжения дурно направленных умственных способностей.
Ваша книга может принести пользу тем из них, которые еще не потеряли способности критически относиться к своим проектам, и потому желаю ей успеха.
С совершенным уважением
ваш покорный слуга
Лев Толстой.
10-го марта 1897 г.
Здоровое изобретение
Выработка изобретения
Обыкновенно думают, будто деятельность изобретателя до такой степени неуловима, что ему и нельзя преподать никаких полезных советов. Как будто успех изобретения всецело зависит только от гения или каприза, или-же от слепого случая. Все это неверно. Тот, кто много сталкивался с изобретателями, кто следил за историей изобретений, тот не может не видеть в деятельности изобретателя, в его успехе или неудаче, замечательной закономерности. Разумеется, когда человек в первый раз вступает на скользкий путь изобретения, то, - в этом ничего удивительнаго нет, - все ему ново, все его удачи и неудачи кажутся чем-то, случающимся только с ним. Он и себя самого, и все, что с ним случается, готов считать за исключение. А со стороны видно, что на нем только сказывается общее правило…
И эта правильность начинается уже с самаго процесса изобретения. Как-бы случайно изобретатель ни напал на свою идею, какия бы превратности его изобретение ни претерпевало, все равно, весь процесс изобретения, от перваго проблеска идеи - до окончательнаго выполнения изобретения на деле, распадается на три акта. И в выработке каждой отдельной детали опять сказываются те же три акта. Это оттого, что для изобретения нужны три вещи: 1) догадка, 2) знание и 3) умение. Для здороваго изобретения надо: задаться возможным, знать необходимое и уметь обращаться с материей.
Для того же, чтобы читатель сейчас-же убедился, что это не пустые слова, мы приступим к анатомии процесса изобретения, чтобы изобретатель себя в нем узнал (Излагаемый ниже процесс изобретения подробно разобран автором в его книге: "Теоpия творчества", изд. "Образование". Спб. 1910. Ц. 1 р. 50 к.)
Первый акт. Создание идеи. Акт догадки.
Создание новой машины или вообще новаго приспособления предполагает прежде всего, что условия задачи ясно сознаны. Но этого, конечно, мало. Можно все знать и ничего новаго не придумать. Для этого необходимо, чтобы в душе совершился творчески акт. Вот в нем, и только в нем, кроется все неуловимое, все капризное в изобретении. Вы сегодня тщетно ломаете себе голову над задачей, а завтра решение приходит само собою. Вы не знаете, откуда и как решение появилось в вашем уме, но оно до такой степени ясно и необходимо, просто и полезно, что вы не понимаете, как это вы раньше этого не понимали, и как другие не поняли раньше вас.
Но что дает этот первый проблеск? Редко он является в виде ясной мысли. Обыкновенно это только предчувствие мысли, ея зародыш. Вы чувствуете, однако, что сама мысль уже недалеко, что стоит только немного углубиться в самого себя, и мысль предстанет в полной ясности. И вот, вы начинаете уяснять себе свою собственную мысль. Все, что вы знаете и помните из прежняго опыта, всe, что сейчас происходит перед вашими глазами, о чем вы слышите, читаете, все это примеряется к вашей мысли, вернее, к ея зародышу. Что подходит, то удерживается в сознании, а неподходящее забывается. И таким образом зародыш обрастает формами и, наконец, предстает перед вами в виде ясной определенной мысли, определеннаго замысла.
Что дает эта ясная мысль? При всей своей ясности она не дает больше, как предположение о том, что ваша цель, может быть, будет достигнута на таком-то пути. Это "может быть" не вытравляется никакой ясностью мысли. Это во всяком случай не больше, как ясно выраженное предположениe, намерение, замысел. Это только определенно высказанное ваше желание.
Не придавайте этой первой идей большаго значения. Но не придавайте ей и слишком ничтожнаго значения. Это все-таки одна треть изобретения. Совершился первый акт его.
Как видно, первый акт распадается на два момента: первый момент - это возникновение (из творческой глубины безсознаниельного духа) зародыша мысли, а второе - чтение мысли до уяснения ея перед самим собою. Конечно, часто бывает, что мысль сразу ясна; но это значит только то, что второй момент прошел незамеченным. А по общему правилу, особенно, когда новая мысль сильно отличается от существующаго, чтение своей собственной мысли требует даже упорной, сознантельной работы.
Теперь посмотрим, как должно протекать это первое внутреннее чтение своей идеи. Если вы, имея только смутное предчувствие решения, для скорейшаго облечения его в формы, стали-бы просматривать атласы и справочные книги, то вы скоро с досадой заметили бы, что не приближаетесь к цели, а от нея удаляетесь. Почему? Да потому, что все существующее - не то, что вам нужно. Совсем другое дело, если вы стараетесь не глядеть, а припоминать. Образы воображения податливы, они прилаживаются к вашему настроений. Ввиду сказаннаго можно установить следующее правило: чтению смутной идеи помогает не столько то, что сейчас находится пред глазами, сколько то, что раньше воспринято и усвоено. Вот что называется "вынашивать свою идею".
Эта работа должна происходить умозрительным путем. Бумага и карандаш, которые дальше будут необходимы, теперь могут только помешать. И это по двум причинам. Во-первых, вам всего нужнее припомнить как можно больше всяких форм, но форм, воображаемых, готовых изгибаться по требованию вашей идеи; а самые легкие черточки на бумаги насильственно приковывают к себе внимание и связывают воображение, потому что они все-таки вещественнее воздушных форм воображения. Образуется насильственный центр тяжести, который может повредить всему произведению. Совсем не то, когда такой центр тяжести образуется свободным нарастанием воображаемых форм; это живое ядро, которое притягивает новые и новые формы, образуя стройное целое.
Но есть и вторая причина, почему бумага и карандаш, пока, скорее вредны, чем полезны. Ведь, бумага имеет только два измерения, тогда как всякое механическое приспособление имеет их три. Поэтому, располагая органы в плоскости, вы рискуете повредить удачному их раcположению в пространстве. Если же создается машина, то про нее можно сказать, что она имеет даже четыре измерения, так как к трем измерениям пространства присоединяется еще время. Это вот что значит: рабочие органы совершают свое назначение только тем, что производят определенные движения. Возьмите швейную машину и представьте себе (в воображении) те движения иглы, челнока и транспортера, благодаря которым образуется петля. А потом попробуйте изобразить на бумаге не органы, а их движения. И это вам не удастся. Вот почему чтение идеи должно совершаться в воображении.
Первый акт изобретения окончен, когда изобретатель сам себе ясно говорит, чего ему хочется. Теперь, почти всегда можно и записать что-нибудь или набросать эскиз. Можно и другому сообщить свою мысль. Это говорится не в виде совета. Наоборот, теперь рано сообщать свое "предположение" другому: он или не поймет, или не поверит. И будет прав, потому что идея, выясняющаяся в конце перваго акта, только говорит о том, чего хочет изобретатель, но не о том, что он может и что будет делать на самом деле.
Второй акт. Выработка плана (схемы). Акт знания.
Второй акт, вообще говоря, получает будущее изобретение в виде отдельно стоящих частей. Его задача-заполнить пробелы и этим путем устранить из идеи ея сомнительный (гипотетически) характер. Карандаш и бумага здесь прямо необходимы. Приходится и чертить, и вычислять. Мало того: приходится делать опыты, строить модели, все испытывать на деле.
Конечно, если новая идея мало отличается от существующаго, тогда и наличнаго знания бывает достаточно. В противном случае надо приобретать недостающие знания. Необходимо бывает рыться в атласах, учебниках и сборниках, работать в лабораториях, усвоить себе математический анализ. Конечно, все это говорится, лишь как общее правило, которое не во всем своем объеме приложимо к каждому отдельному случаю. Но говорится это для того, чтобы выделить различие между первым и вторым актами. Вот это различие:
Если первый акт есть дело догадки, то второй-дело методическаго мышления. В первом акте знание законов природы было нужно, лишь как предохранение от того, чтобы не поверить в невозможное, чтобы не пожелать недостижимаго. Теперь этого мало: теперь нужны положительный познания, зачастую весьма мелочнаго характера. При сложном и очень новом изобретении надо бывает владеть даже искусством экспериментатора.
Задача второго акта состоит в том, чтобы выработать план изобретения. План и идея, это вещи разные: идея (предполагается здоровая) говорит только то, что "необходимо", план-же говорит, что "необходимо и достаточно" для действия. На протяжении второго акта все еще продолжается искание; но только здесь творчество (интуитивное) уже в значительной степени отступает назад, а выступает разсудочная работа. Если вырабатывается машина, то приходится думать больше о движениях, а формы будущих деталей рисуются в виде схематических линий: вырабатывается то, что называется схемой машины. Решая вопрос о движениях и общем расположении частей, мы выясняем и главные размеры деталей: длины рычагов, диаметры колес и тому под. Попутно выясняются и усилия, действующия в различных точках изобретения.
Часто, если даже не большею частью, приходится теперь строить модель изобретения. Что такое модель? Это та-же схема, только выполненная не на бумаге, а на деле: суть модели не в материалах и не в размерах, а в общем расположении, которое доказывает действие.
А задача второго акта и есть - доказать осуществимость идеи. План изобретения (результат второго акта) показывает не только то, чего хочется изобретателю, но и то, чего он может достигнуть. Когда изобретение прошло второй акт, то собственно оно, для понимающаго человека, уже сделано. Не то, что вещь готова: употреблять ее, применять на практике еще нельзя, но изобретение готово в том смысле, что остальное, т. е. практическое выполнение вещи, выделка ея для торговли уже не требует больше изобретательской работы - ее можно поручить всякому рядовому специалисту по данной отрасли,
Третий акт. Выполнение. Акт умения.
Все органы теперь в линиях даны. Требуется придать им технически правильные формы и размеры, а всей вещи придать известный стиль. О стили скажем впоследствии. А теперь обратим внимание на следующее: задача изобретателя как-бы распадается в третьем акте на столько отдельных задач, сколько имеется частей в изобретении, потому что каждая часть вырабатывается особо. Можно подумать, что третий акт, поэтому, самый трудный из всех. На самом-же деле он - самый легкий, и вот почему: какие-бы детали для новой машины ни потребовались, для всех найдутся образцы в существующих машинах. Множество прекрасных справочников облегчают работу конструктора. Здесь именно вырабатывается то, что называется конструкциeю машины.
Теперь или никогда следует позаботиться и о практичности всей конструкции, т. е. о том, чтобы соблюсти экономию как в материале, так и в работе по выделке, чтобы достигнуть возможной простоты в уходе, чтобы осмотр, смазка, ремонт были возможно удобны. Одним словом, теперь вступают в силу, в виде задач, все те будущия требования, с какими к машине обратится практик, который будет ее употреблять. Задач этих, представляющихся конструктору при выполнении каждой детали, очень много. Но решение их уже не требует творчества; требуется только знание того, что в данной специальности установлено, что оправдалось на практике.
Наконец, надо вещь выполнить, уже не в виде модели, а в окончательном виде, годном для продажи. Это - дело мастерской. Да и если мы вдумаемся в характер деятельности, преобладающей в третьем акте, то неминуемо увидим, что это все - мастерство. Здесь происходит, так сказать, решительное сражение с материей. До сих пор обрабатывались больше мысли, теперь-сама материя.
Под третьим актом мы разумеем вещественное, окончательное выполнение изобретения, по крайней мере, хотя бы в одном экземпляре. Теперь только можно сказать, что изобретение готово вполне.
Заключительные замечания.
Итак, что-же нужно для изобретателя? Как сказано, нужны: догадка, знание и умение. Можно сказать и так: для окончательнаго создания изобретения нужны: творчество, положительные знания (в данной отрасли) и мастерство. Может-ли и должен-ли сам изобретатель владеть всеми тремя качествами? Конечно, не всегда. Есть люди, одаренные творчеством, но не располагающее нужными знаниями. Другие знают все, что нужно, да лишены творческаго дара. Наконец, изобретатель почти никогда не имеет в своем распоряжении такой мастерской, где придется изготовлять изобретения для продажи.
Вот почему, в техническом творчестве почти всегда работает не один человек, как в творчестве художественном. Писатель, живописец, скульптор единолично и замышляют, и обдумывают, и выполняют свое произведение. Технический изобретатель этого не может. Даже для разработки идеи в существенных частях, во втором акте, он подчас вступает в сотрудничество с людьми, более учеными. А уж про третий акт и говорить нечего: целые полчища заводских рабочих вступают в дело.
Но возьмем изобретение, очень простое, возьмем частичное усовершенствование какого-нибудь уже известнаго приспособления. Возьмем для примера двойную акварельную кисть. Представьте себе, что употребляются только простые кисти, и что вы- тот самый изобретатель, которому первому пришло в голову насадить вторую кисть на свободный конец ручки. Разве это не изобретение? Это - полное изобретение, и оно неминуемо пройдет через целый трехакт, т. е. переживет все три акта. В самом деле, сначала, ведь, должна же явиться мысль о насаждении второй кисти; это будет первый акт. Затем, в этом примере, второй акт, разработка идеи, сливается с третьим актом в том смысле, что здесь дело слишком просто, и все сводится к ремесленному навыку. То же можно сказать о видоизменениях простых ручных инструментов: молотка, пилы, щипцов и т. д.
Сама работа подсказывает рабочему наиболее подходящую форму для инструмента. Но это так только говорится, а на самом деле, и в рабочем, и в самом последнем дикаре совершается некоторый творческий акт в тот момент, когда он себя спрашивает: не лучше-ли так или так выгнуть ручку своей косы? Решить свой вопрос он может только при наличности как знания, так и умения.
Ну, а как же обстоит дело с очень сложными изобретениями, в роде, напр., целаго паровоза? Ясно, что здесь происходить не один трехакт, а целый ряд их.
Каждая новая деталь, подшипник что-ли, первоначально появился в виде полнаго изобретения. Это ясно. После того, как деталь стала общим достоянием, она берется уже, конечно, готовою, без всякаго участия творчества. Точно также, если изобретатель в разработки своей идеи видит, что пошел по ложному пути, что надо откинуть выработанную часть и придумывать другую, то начинается новый трехакт. Таким образом, готовое изобретение (если оно не слишком просто) представляется перед мысленным взором в виде целой виноградной грозди, где трехакты нагромождены друг на друга. Но такой взгляд ничего не усложняет и не запутывает, как, пожалуй, может показаться с перваго раза. Наоборот, он очень уясняет дело, так как показывает, что какия-бы изобретения мы ни взяли, от самых простых до самых сложных, везде мы найдем одно и то-же, а именно, что от изобретателя требуется, во-первых, творческий дар, указывающий ему путь к желательному разрешению занимающей его задачи, во-вторых, знание того, что есть и что хорошо, в-третьих, умение пользоваться всеми теми практическими средствами, которые приведут к цели. Мы говорим пока только о выработке изобретения, начиная от идеи и кончая вещью, годной к употреблению.
Но чтобы покончить с теми свойствами ума, которыми должен быть наделен изобретатель, остановимся несколько на различии между основными деятелями каждаго акта в отдельности.
Деятель перваго акта, творчество, догадка (интуиция) существенно отличается от деятеля второго акта, - методическаго мышления. Мышление должно быть строго логично, догадка никогда не бывает логична, - иначе это не догадка, а опять логика. Но если мы говорим, что догадка нелогична, то надо обясниться. Догадка не то что нелогична: она вне логики, подразумевая под логикой то, что всегда и разумеется, т.е. сознательный вывод заключения из ясно поставленных предпосылок. Но догадка должна быть логична по своему результату; она должна дать настоящий ответь на вопрос, а не вздорную идею, неосуществимую на деле. Вот тут-то и сказывается божественная искра, заложенная в человеке. Там, где сознательная логика не может вывести заключение или подать совета, там божественный голос дает ответ помимо логики, часто как будто даже наперекор ей. Но, зарождающийся в здоровом духи,-ответа оказывается, на поверку, логичным.
Не меньше того отличается деятель второго акта от деятеля третьяго акта, т. е. умственная работа от ручной, знание от умения, размышление от ловкости. Но кажется, это и без обяснений понятно, если вспомнить, что второй акт обрабатывает мысли, тогда как третий акт обрабатывает вещество.
Для нашего взгляда совершенно безразлично: выполняются ли все три акта одним лицом, или многими. Характер их через то отнюдь не меняется, и весь трехакт, т. е. полный процесс изобрения, - тоже. Но вот, что важно: только полный трехакт дает законченное изобретение. Мы знаем, как долго задерживаются иные изобретения на первом или втором актах. Так до последняго времени было с воздухоплаванием. Так было с Суэцким каналом, первый и второй акты котораго были совершены еще при фараонах, но, за недостатком подходящаго мастерства, исполнение намерения должно было дожидаться второй половины прошедшаго века, когда паровая техника дала нужное мастерство.
Задача изобретателя. Каждый изобретатель, приступая к изобретение", ставит себе некоторую задачу. Джемс Уатт, в числе многих изобретателей, дал и свой знаменитый "параллелограм", т. е. рычажный механизм для прямолинейнаго направлетя штока поршня. Это изобретение исторически вполне разъяснено. Задача перед Уаттом стояла такая: поршень движется в цилиндре вверх и вниз, а коромысло, которое должно приводиться в движение этим поршнем, движется по круговой линии. Задача: передать движение штока коромыслу. До Уатта задача эта разрешалась так, что на коромысло насаживалась массивная дуга, а по ней шла цепь, нижний конец которой был скреплен со штоком. Дугу эту Уатт задался упразднить по многим причинам, о которых здесь говорить не стоит. В результате, он дал свой рычажный механизм, достигающий сразу двух целей: устранения дуги и прямолинейнаго направления штока. Еще пример: Элиас Гау задумал построить машину для шитья. Это было в сороковых годах прошлаго века. А попытки создать швейную машину достоверно восходят почти на сто лет раньше. В них изобретатели стремились только к тому, чтобы поближе придерживаться ручной работы шитья и ее воспроизвести машиной. А Гау подошел к решению задачи другим путем: он применил к шитью ткацкий челнок и решил задачу.
Подобных примеров можно бы привести множество, и все они обнаружат только следующее: когда изобретатель задает себе такую задачу, для решения которой вовсе нет работ предшественников,-или же он таковых не знает, - то ему ничего другого не остается делать, как прежде всего, самое задачу так поставить, чтобы ее возможно было разрешить механическим путем. На вопрос, как это сделать, может ответить только гений.
Но откуда берутся изобретателями задачи? Ведь, таких задачников нет. Это опять дело творческаго чутья, для котораго нет никаких правил. Можно только на примерах показать, как такия задачи возникают.
"Ах, как бы мне хотелось летать, подобно птице"! Что это, техническая задача? Нет, это простое желание. Облечь желание в техническую задачу - вот уже первый шаг, недоступный рядовому обывателю. Желание летать, подобно птице, - живет в человечестве с незапамятных времен: на него указывают древния сказки. Но все сказки о крыльях, которыми машет человек своей мускульной силой, не имеют технической цены: человек должен быть для этого раз во сто сильнее, чем он есть. Но человечество не заметило, как оно, тоже с незапамятных времен, напало на постановку технической задачи авиации и на правильный путь к ея решению. Мы говорим о бумажном змее. И девятнадцатый век, с его развитой наукой и техникой, конечно не мог этого не заметить. И вот целый ряд смелых умов, между которыми особенно выделяется немецкий инженер Лилиенталь, поставили себе такую задачу: исходя из того факта, что бумажный змей поддерживается ветром (и ниткой), определить: каковы должны быть поверхности, способные поддержать вес человека? ЗДЕСЬ был совершен первый акт, поставивший второму акту задачу: выяснить эти условия такими же путями, как естествознание решает свои задачи. Начались опыты, решившие эти вопросы: величина площадей, наклон их выяснились. Оставалось только технике дать мотор такой силы и такого веca, чтобы можно было летательной машине развить необходимыя скорости. В отношении к задачи авиации это был третий акт. Теперь и он решен, благодаря огромным успехам в постройке автомобильных моторов. Из этого примера выходит, что житейское желание летать превращено в техническую задачу авиации неизвестно кем и когда, - путем постройки бумажных змеев, - безсознательно.
Но иногда житейская задача превращается в техническую задачу в душе одного человека. Первый воздушный шар (с нагретым воздухом) был изобретен Монгольфьером таким образом: глядя на кучевые облака, которые, как известно, столбами поднимаются вверх, Монгольфьер задумался: нельзя-ли заключить облако в оболочку и подвесить к ней человека? Нельзя ли воспользоваться подъемной силой, поднимающей облака? Здесь житейское желание превратилось в техническую задачу. И вместе с тем был совершен первый акт. Это было только предположение. Второй акт - систематичесие опыты должны были доказать на деле осуществимость предположения: возможно ли сделать такую легкую и непроницаемую оболочку и т. п. ? Затем последовал третий акт, т. е. окончательная постройка воздушнаго шара, годнаго для практическаго употребления.
Вспомним и Элиаса Гау. Чутье ему подсказало, что простой ручной шов не годится для машины, и он поставил себе другую задачу.
Итак, когда изобретатель задается целью построить машину для такой работы, для которой машин еще нет, то ему в сущности ничего не дано, и от его гения зависит удачная или неудачная постановка своей собственной задачи.
Но крайне редки те случаи, когда мир получает вполне готовое и практическое приспособление из рук перваго изобретателя. Это скорее исключение, чем правило. К таким исключениям принадлежит Гау, швейная машина котораго с челноком жива до сих пор. Мы ниже увидим, что машины Зингера и др. представляют лишь конструктивные варианты машины Гау. Но про огромное большинство современных машин можно сказать то, что Стефенсон сказал про современный ему паровоз: это - дитя безконечнаго числа отцов. А в большой публике и до сих пор считают Стефенсона изобретателем паровоза. Впрочем, публика и Эдисону приписывает гораздо большее число изобретений, чем он сделал. Это общее явление: возьмут отдельные имена (Эзоп, Соломон, Александр Македонский, Кард Великий, Петр) и к ним приурочивают всякие любопытные факты, в которых носители этих имен часто вовсе неповинны. На самом же деле чаще всего бывает, что каждый отдельный изобретатель вносит лишь крупицу в техническую сокровищницу человечества. И того довольно! Один умирает, завещая свое неготовое детище другому, совершенно неизвестному. Этот другой нарождается, ведет дело на один шагь дальше и т. д. Этим путем техника прогрессирует, и прогресс технических произведений во многом напоминает эволюцию живых существ на земле.
Но иногда над выработкой новаго изобретения одновременно работает и несколько человек в правильном сотрудничестве. Блестящий пример такого совместнаго изобретения нам представляет двигатель Дизеля. Инженер Дизель путем математических выкладок разяснил, какого значительнаго усовершенствования можно достигнуть в обыкновенных взрывных моторах, если осуществить определенный условия сгорания, среди которых главные: сильное сжатие перед вспышкой (до 30 атм.) и постепенность сгорания (вместо взрыва). Но этим был совершен только первый акт изобретения мотора Дизеля. Для выполнения второго акта четыре германских завода сговорились и стали вырабатывать мотор по принципу, установленному Дизелем. На этих заводах были выполнены второй и третий акты.
Подобный пример совместнаго изобретения мы часто можем наблюдать в любом университете. Как известно, при всякой физической кафедре есть свой оптик-механик, производящей починки и постройки аппаратов. Сплошь да рядом случается, что профессору нужен какой-нибудь особенный прибор, приспособленный для его текущих изследований. Профессор обыкновенно имеет лишь общую идею прибора и объясняет механику только, каковы должны быть главные (рабочия) части прибора. А что до окончательных размеров частей, их прикрепления и т. п., - это дело механика. Словом профессор совершает либо один первый акт, либо первый и второй, а остальное совершает механик.
До сих пор мы говорили только о вещественных изобретениях. Но, ведь, мы знаем, что часто предмет изобретения составляет какое-нибудь определенное действие, определенный способ получения намеченнаго результата. Но если мы вдумаемся в этого рода изобретения, если проследим историю подобных изобретений, напр., разсказанную самим Бессемером историю изобретения им знаменитаго способа получения стали прямо из чугуна, то опять не найдем ничего, кроме трехакта. Но на этих примераъх, имеющих больше теоретический интерес, мы здесь останавливаться не будем.
О догадке
В числе психологов, разсматривающих безсознательную творческую работу, с которой начинается всякое изобретение, наше внимание особенно привлекает Уиллиам Карпентер, который в своей "Физиологии ума" (есть русский перевод) не только разбирает ее теоретически, но дает и практически совет о том, как пользоваться выгодами, представляемыми этой безсознательной деятельностью. В этом он резко расходится с большинством психологов и в особенности психологов-педагогов, проповедующих лишь о ненадежности и об опасности безсознательной умственной работы. Поэтому, полезно здесь будет напомнить читателю о том, что говорил Уиллиам Карпентер.
Прежде всего Карпентер, ссылаясь на свой опыт и на слова некоторых мыслителей, утверждает, что безсознательная умственная деятельность вообще существует. Сначала он ее выделяет в явлениях "припоминания". Он указывает на следующий, каждому по себе хорошо знакомый факт: "часто после того, как старались припомнить какое-нибудь имя, фразу или случай и, тщетно перепробовав все известные нам средства вызвать в нашем уме требуемую идею, оставляли попытку, как безплодную, немного погодя, эта идея являлась самопроизвольно, внезапно, как бы вспыхивая в нашем сознаний в то время, когда мы или думали о совершенно постороннем, или просыпались от глубокаго сна". Отсюда Карпентер выводит заключение, что, значит, поиски за припоминаемым делаются внутри души независимо от сознания и продолжаются даже тогда, когда сознание занято чем-либо другим. Он продолжает: "Автору так часто случалось испытывать это на себе, что теперь он всегда доверяет этому методу припоминания, когда уверен, что искомая идея недалеко, т. е. когда ум его может найти ея след... Ибо он гораздо легче вспоминает то, что ему нужно, прекращая безуспешные поиски и принимаясь за другое занятие, нежели утомляя себя тщетными усилиями... Такое отвлечение внимания от хода мыслей дает, повидимому, ту выгоду, что предоставляет ему идти своим порядком, между тем, как безплодные попытки направить его в ту иди другую сторону только мешают ему".
Затем Карпентер переходит к более сложным случаям, носящим уже признаки творчества. "Те, кто наблюдал над своими собственными умственными отправлениями, должны знать, что, если они занимались некоторое время каким-нибудь предметом, потом перенесли внимание на другой предмет и, наконец, опять вернулись к первому, то часто оказывалось, что первый предмет, после того, как был отложен ими в сторону, принял совершенно другой вид, несмотря на то, что ум в этот промежуток времени был до такой степени поглощен другим предметом, что никаким образом не мог сосредоточиться на первом". Первый предмет, предоставленный самому себя, приходит в новый, лучший порядок, одним словом, получает в нашем уме, безсознательно и автоматически, новое развитие. Некоторую долю участия в таком упорядочении Карпентер приписывает отдохновению ума и, однако, продолжает: "Но перемена в состояний ума отнюдь не объясняет совершенно новаго развития, которое часто сказывается в предмете, когда мы возвращаемся к нему после значительнаго промежутка времени; это развитие мы не можем объяснить иначе, как приписав его промежуточной мозговой деятельности, производящей результаты автоматически, помимо нашего сознания".
Переходя к вопросам настоящаго творчества, Карпентер дает прямо практическое указание, как следует поступать при разрешении трудных задач, предъявляемых жизнью каждому, - например, когда нужно принять решение важное, но при том такое, "за" и "против" котораго можно сказать многое. Это самые трудные вопросы. "Если нам не зачем торопиться решением, то лучше всего предоставить решение вопроса безсознательной мозговой деятельности, вызвав предварительно в уме как можно полнее все, что может быть высказано с обеих сторон..." "Удивительно иногда бывает, как при возвращении к обсуждаемому вопросу после такого промежутка времени, ум, не колеблясь более, тяготеет к одному определенному решению. Я убежден, что в хорошо дисциплинированной натуре этот безсознательный мозговой процесс, который уравновешивает между собой различные соображения, приводит в порядок материал и вырабатывает продукт, даже гораздо вернее приведет к правильному решению, нежели продолжительное обсуждение и аргументация". Затем Карпентер приводить письмо одного проповедника, который практически пользуется его методом для выработки своих проповедей на заранее выбранную тему: "В течение многих лет я привык действовать по вашему принципу "безсознательной мозговой деятельности" и всегда с удовлетворительным результатом. Мне часто приходится, как вам должно быть известно, говорить проповеди на тот или другой случай. Когда мне предстоит такая задача, я обыкновенно сажусь и обдумываю имеющийся материал, не приводя его сначала в связную схему. Затем я откладываю на время свой умственный набросок и направляю свой ум на что-нибудь другое. И когда, через неделю иди две, я снова принимаюсь за проповедь, то всегда нахожу, что отложенные в сторону материалы пришли в порядок сами собою, так что я тотчас начинаю развивать их по тому новому плану, в котором они мне представляются".
Наконец, Карпентер переходит к изобретению собственно. "Та же безсознательная работа ума в широкой мере участвует в процессе изобретения, артистическаго или поэтическаго, научнаго или механическаго. Все изобретатели (артисты, поэты, механики) непременно испытывали, что когда они наталкивались на какую-нибудь трудность, то путаница мыслей вернее распутывалась, если внимание их было отвлечено в другую сторону, чем при помощи самых продолжительных усилий". "Так, о покойном Аппольде, изобретателе центробежнаго насоса, привлекшаго всеобщее внимание на международной выставке 1851 г., разсказывают следующее: Когда перед ним вставало затруднение, то он имел привычку подробно обсуждать поставленную перед собой задачу. Затем он направлял внимание на простейшие способы, посредством которых можно было бы получить желаемый результат. С этою целью он вызывал в уме своем впродолжение дня все факты и принципы, относящиеся к данному случаю, и обыкновенно разрешение задачи приходило к нему рано утром, тотчас после сна".
Аналогичный пример разсказан еще об усовершенствовании бинокулярнаго микроскопа Венгамом. Раньше существовал лишь симметричный стереоскопический микроскоп Наше. Вентам задумал выработать дополнительный ко всякому микроскопу окуляр, который превращал бы его в двойной. Для этого надо было разделить пучек света из объектива так, чтобы одна половина пучка шла по-прежнему прямо в один окуляр, а другую половину отклонить несколько в сторону, во второй окуляр. Венгам долго не мог придумать нужной ему формы призмы. "Как-то раз ему пришлось заняться своим инженерным делом, и он отложил недели на две свои изследования устройства микроскопа. Однажды вечером, по окончаний дневной работы, когда он читал какой-то глупый роман, совсем не думая о своем микроскопе, форма призмы, вполне отвечавшая его цели, ясно представилась его уму. Он достал чертежные инструменты, вынул диаграмму и вчертил требуемые углы. На другое утро он сделал призму и нашел, что она вполне отвечает своей цели. С тех пор по этому плану у нас делаются все двойные микроскопы для обыкновеннаго употребления".
О личных особенностях изобретателей.
До сих пор мы говорили преимущественно о том, что в деятельности разных изобретателей замечается одинаковаго, закономернаго. Пора поговорить и о том, что уклоняется от нормы, в чем один изобретатель разнится от другого. Читатель понимает, конечно, что это был бы разговор безконечный, потому что изобретатели цринадлежат преимущественно в тому разряду людей, который заметно отличается от простых обывателей и за то клеймится нередко названиями: "оригинал" или даже "чудак". Название "оригинал" никому не обидно; а презрительное название "чудак" часто применяется несправедливо. Чудаком мы называем того, кто одевается не по нашему, кого интересуют вещи, нам неинтересные, кто не ценит того, что ценим мы. Мы слишком привыкли считать за хорошее только то, что нам нравится, и сами не замечаем, что обо всех судим по себе. Например, что это значит, если я снисходительно признаю за кем-нибудь вкус? Это значит, что наши вкусы сходятся. А если я замечаю, что мой знакомый имеет вкус не такой, как мой, то я говорю: "у него нет вкуса". Точно также, когда я про кого-нибудь говорю: "он умен", то это, в сущности, значит: "он умен, как я". Когда я кого-нибудь называю чудаком, то значит ставлю его ниже себя в отношении вкусов, познаний, разсуждений, интересов. Поэтому, слово чудак мы лучше вовсе не будем применять по отношению к изобретателям.
Но оригиналов среди изобретателей много. Один пренебрегает туалетом, другой нетребователен в отношении пищи, третий живет отшельником, четвертый злоупотребляет возбудителями. Психологи, изучавшие приемы творчества у разных изобретателей, поэтов, живописцев, музыкантов и проч., подметили много оригинальнаго: один творит только выпивши, другой работает только но ночам, в сильно освещенной комнате, третий требует комнаты, жарко натопленной, четвертый требует эротическаго возбуждения, и т. д.
Но это только внешния условия. Не меньше своеобразия находим мы в душевном укладе изобретателей. Приведу несколько примеров из своих наблюдений. Господин Алле, которому принадлежит несколько изобретений в земледельческих машинах, разсказывал мне, что ему всегда очень трудно бывало сосредоточить свою мысль на одном предмете: "когда я думаю над усовершенствовашем плуга, мне невольно приходят на мысль усовершенствования в молотилке; начинаю думать о молотилке, мысль летит к плугу".
То же самое я вычитал в книге Сурио по теории творчества.
Разсказывая про свою работу над этой самой книгой, автор признается, что когда он старается сосредоточить свои мысли на том, о чем сейчас пишет, то ему приходят в голову афоризмы, которые пригодятся совсем в других главах книги. Он дает совет записывать все подобные мысли, потому что они очень легко забываются, когда дойдешь до той части работы, куда оне относятся *).
(* "Nous perdons ainsi une grande quantite de travail intellectuel, qu'il у aurait peut-etre moyen d'utiliser, en menant ainsi de front toutes les parties d'un merae ouvrage et meme plusieurs ouvrages a la Ms". P. Souriau, "Theorie de l'invention", 1881.
"Мы теряем много умственнаго труда, который можно бы использовать, если бы вести одновременно разные части одной работы или даже части разных работ зараз". Cypio, "Teoрия изобретения", 1881.)
О летучести первых творческих проблесков мне разсказал интересный случай англичанин Томсон, служивший ткацким мастером на одной крупной мануфактуре в России. Если вы, читатель, никогда не бывали в мастерской, где работают сотни самоткацких станков, то вы не можете себе представить этот адский шум, с которым мирятся, как с неизбежным злом. Шум такой, что как-бы вы ни кричали, вас не слышит человек, стоящий рядом с вами. Шум этот производит на каждом станке пара шестерен; все назначение которых состоит в том, чтобы передавать половинное число оборотов. Г. Томсон задумал устранить эту пару шестерен, чтобы избегнуть шума. Если бы он владел техническим образованием, то он знал-бы те механизмы, которые уже выработаны для этой цели; но ему приходилось изобретать. Механизм не давался. Наконец, мысль о таком механизме явилась ему в тот момент, когда он улегся в постель. Мысль была до того ясна и проста, что он тотчас заснул, в блаженной уверенности, что завтра же утром выработает свое изобретение. "Но каково-же было мое отчаяние, разсказывал он, когда на другой день оказалось, что я совершенно забыл свою мысль, столь простую и понятную. Я две недели ходил, как помешанный, не в силах будучи думать ни о чем другом, даже пренебрегая службой. Вдруг мысль эта вновь пришла мне, и опять в момент засыпания. Тогда я вскочил и записал ее. Вот эта запись". Запись была такого рода, что посторонний не мог бы ничего в ней понять.
Аналогичный случай приводит У. Карпентер в своей вышеупомянутой "Физиологии ума". Он передает слова одного его знакомаго: "В другой раз меня мучила алгебраическая сумма. Я никак не мог получить искомый результат. Через несколько недель, возвратившись после одного собрания, я улегся, думая о приятно проведенном вечере, как вдруг меня осенила мысль, что в сумме, в ея настоящем виде, была ошибка. Я вскочил с постели, исполненный того-же таинственнаго ощущения (ощущения как-бы от присутствия другого существа, сообщившаго тайну), написал составленное мною алгебраическое выражение с пришедшей мне в голову поправкой и получил искомый результата. Странно сказать, но через нисколько недель, заглянув в книгу, где у меня раньше была записана та формула, я опять не мог найти, какую поправку надо внести в нее, и только разъискав клочек бумаги, на которой я набросал ее в ту ночь, я мог поправить сумму и в книге".
Летучесть мыслей зависит не от самой мысли, а от особенностей духа. Другие изобретатели, наоборот, отличаются необыкновенною устойчивостью воображения. В бытность мою в 1883 г. в Лейпциге я посетил заводь Руд. Закка, желая лично познакомиться с хозяином, изобретателем всемирно-известных плугов и сеялок. Закк, прежний кузнец, отличался от природы флегматическим темпераментом, который так вязался с его атлетическим телосложением. Завод его, на котором тогда уже работало 600 рабочих, изготовлял массовым производством, т. е. в большом числе экземпляров, очень небольшое число отдельных номеров машин, которые ежедневно грузились целыми вагонами и отправлялись во все страны света. На заводе я нашел многолюдную контору, но в техническом бюро нашел всего одного конструктора. Этот последний мне разсказал, как Закк изобретает свои машины. Задумав новую машину, Закк ничего не чертит а вынашивает ее всю в воображении. Только тогда, когда машина в воображении готова во всех мельчайших частях, Закк затворяется со своим конструктором, и тот, по его указаниям, вычерчивает не то, что называется проектом машины, а то, что называется рабочими чертежами, т. е. каждую деталь прямо в натуральную величину. По этим чертежам заготовляют модели и шаблоны, и, под личным руководством изобретателя, в мастерской выростает машина, существовавшая до того лишь в воображении изобретателя. Конструктор уверял меня, что обыкновенно все заготовленные части хорошо приходились друг к другу. А между тем рядовыя сеялки Закка - машины довольно сложные.
Такую-же устойчивость воображения надо допустить в писателе Гончарове: известно из его автобиографии, что он имел обыкновение вынашивать целый роман в голове, даже с разделением на главы. Лишь тогда Гончаров садился писать и, конечно, писал очень скоро.
Есть изобретатели, наделенные большою пылкостью воображения, а есть, наоборот, и такие, у которых воображение слабо. К последнему типу принадлежать, например, г. Рисслер, почтенный бюргер маленькаго немецкаго города Цербст, известнаго и для нас интереснаго тем, что Poccия получила из него свою Екатерину Великую. Рисслер сам указывал мне на ограниченность своего воображения и даже видел в этом достоинство. Вот что разсказал он мне об изобретении им машины для сажания картофеля. Общее устройство машины далось легко: ящик на колесах, в нем картофель; ложки, сидящия на безконечной цепи, берут во время хода картофель из ящика и складывают его в борозду. Но что не давалось, так это форма ложек: одне не брали, другия захватывали по два клубня, третьи давали пропуски. Сделав дюжину ложек новой формы, Рисслер насаживал их на цепь, заправлял машину и отправлялся с нею на свое опытное поле, для наблюдения за тем, как попадает картофель в борозду. "И вот, говорил он, я шагал в течение восьми леть по своему полю, пока не дошел до самой практичной формы ложек". После этих слов Рисслер показал мне несколько ящиков, полных испробованными, но неудачными формами.
Итак, г. Рисслер весьма невысоко ценил свою творческую способность. Это явление встречается нередко в изобретателях: многие прямо отрицают особый дар творчества, т. е. особую способность к созданию новых идей. Она им кажется непременной принадлежностью всякаго человека. Понять такую слепоту нетрудно. Точно также ловкий человек не чувствует своей ловкости, сильный-своей силы. Ведь, мы замечаем в себе только то, что требует сознательнаго усилия. Значит, мы замечаем в себе не свои способности, а скорее недостаток в способностях. Интересный пример такой слепоты мы видим в известном изобретателе, Мейдингере, имя котораго вошло во все учебники физики, так как его гальванический элемент распространился по всему свету в телеграфном деле. Элемент Мейдингера, в сущности, является только усовершенствованием элемента Даниеля, но усовершенствованием, дающим ему значительное преимущество перед последним.
Но Мейдингеру принадлежат и другия весьма практичныя изобретения. Так, он первый построил такую печь (железную), которая заполняется углем и топится постоянно, допуская регулировку горения. В Германии печи Мейдингера известны до сих пор; у нас больше известны их варианты под названием печей Гелюс, Юнкер-Ру и прочие. Из других его изобретений мы назовем мороженицу, которая тем отличается от обыкновенных морожениц, что в ней смесь льда с солью имеет не твердую консистенщю, а жидкую, что представляет некоторое удобство (лучшее прикосновение охлаждающей смеси с замораживаемой жидкостью). Мы не станем входить в детали устройства элемента, печи и мороженицы; нас интересует то, что говорит сам Мейдингер о созданий этих изобретений. Пользуемся библиографической редкостью: книжкой Мейдингера "Об изобретении" (Н. Meidinger, "Vom Erfinden", 1892).
Из перечисленных изобретений Мейдингер, повидимому, выше всего ценить свою печь. Сначала он говорит, что в течение нескольких лет имел случай много работать над кухонными очагами (1866-1869). Возникновение своей печи он приписываешь только своему предварительному знанию, совершенно проглядев интуицию. Раз был в наличности запас знаний, то потребовался только внешний толчек (по нашему, постановка задачи), для того, чтобы создалась печь. "Этот толчек... дала в 1869 г. вторая полярная немецкая экспедиция под начальством капитана Кольдевея. В бытность свою в Карлсруэ он разговаривал с автором об отоплении кают и указывал на недостатки обыкновенных железных печей, особенно чувствительные в тесных помещениях, заполненных людьми: очень неприятную лучистую теплоту, неравномерность нагревания от периодической топки и недостаточную вентиляцию, к тому же и значительный расход топлива. Средства против этих неудобств были автору известны; они изложены в статье о комнатных печах, напечатанной
в "Баденской промышленной газете" за 1867 г. Таким образом сразу была изобретена новая печь, лишь только побуждение к
тому появилось. Потребовалось только изготовить чертежи с назначением размеров, соответствующих комнатам разной величины".
Переходя к изобретению мороженицы, Мейдингер разсказывает, что в промежуток времени между 1868 и 1871 г.г. ему пришлось много поработать над комнатными ледниками; а в 1872 г. он сделал "новое научное открытие" (neue wissenscha-ftliche Tatsache), состоящее в том, что лед тает в насыщенном растворе поваренной соли, причем смесь остается жидкой, а температура опускается до 17° Р. ниже нуля. "Выяснение этого факта и изобретение мороженицы шло почти рука-об-руку. Мороженица была вычислена и вычерчена в течение нескольких часов в различных своих величинах. Она такою и осталась до сих пор и изготовляется многими фабрикантами **).
Свой гальванически элемент Мейдингер упоминает лишь под третьим номером, в качестве примера того, как делаются изобретения "научнаго характера" (?) "сознательным намерением произвести что-нибудь новое, лучшее". Внешним побуждением к этому изобретению послужило желание иметь баттарею ровнаго действия для электрических часов. Известныя тогда баттареи не были достаточно постоянны. Мейдингер принялся за конструктивныя видоизменения и, после нескольких лет экспериментальной работы, в 1859 г. дошел до своего элемента.
Дальнейшия разсуждения Мейдингера по поводу описанных трех изобретений доказывают только то, что он не желает и знать той творческой способности к новым комбинациям, которая лежит в основе всякаго изобретения. Некоторым основанием к такому взгляду служит, пожалуй, то, что его изобретения, действительно, не отмечены печатью гения, что главным деятелем в их выработке явилось трудолюбие, что они представляют собою лишь частичные видоизменения готовых образцов. Вся его книжка и направлена на то, чтобы подчеркнуть важность "научнаго изследования" в деле изобретения.
Такое же пренебрежение к основной творческой пружине изобретения мы находим еще у одного изобретателя, Капитена, известнаго серьезными усовершенствованиями в газовых и керосиновых двигателях. Он тоже издал книгу "О сущности изобретения" (Е.. Capitaine, "Das Wesen der Erfindung", 1895). Хотя на вступительных етраницах Капитен и приводит ряд известных мыслителей, указывающих на существование в творческом процессе интуитивнаго фактора, который мы называем догадкой, тем не менее он видит в признании такого фактора "недоразумение" и обещается показать на примерах изобретений ненужность допущения такового. К сожалению, надо сказать, однако, что примеры, приводимые им, только разочаровывают читателя: вместо того, чтобы сообщить нам о своих оправдавшихся на практике изобретениях и на них доказать свой взгляд, Капитен распространяется о таких изобретениях, над которыми он, повидимому, трудился тогда, когда писал свою книгу, так как одно из них (совершенно новый музыкальный инструмент) он обещается вскоре выпустить в свет. Но так как со времени выхода в свет его книги прошло уже 15 лет, а об его музыкальном инструменте мы ничего не слышим, то это обстоятельство всего сильнее и говорит против его учения. Впрочем, все учение его сводится лишь к указанию на то, что изобретателю, для успешной выработки изобретения в деталях, очень полезно иметь под руками систематические, "связные" и "сплошные" обзоры всего, что известно в данной специальности. Кто же против этого спорит? Но нельзя из этой пользы выводить "сущность" изобретения, устраняя из него догадку, т. е. то самое, без чего изобретение перестает быть изобретением. А если Капитен не приводит своих законченных и практичных изобретений, то, вероятно, потому, что они создались тогда еще, когда он не увлекался своей искусственной теорией, т. е. создались обыкновенным путем, интуитивным.
Подводя итог этой краткой главе о личных особенностях изобретателей, я должен признаться, что она крайне отрывочна. Но в свое оправдание я могу сказать, что задача всей настоящей книги состоит, ведь, в том, чтобы выделить именно то, что в деятельности изобретателей замечается закономернаго. А если выделять особенности этой капризной деятельности,-что и делается часто по вопросам изобретения, - то такую работу можно разве только начать, но окончить невозможно.
Распространение здороваго изобретения
Изобретатель почти всегда вырабатывает свое изобретение для его распространения среди людей. Почему мы прибавили: "почти всегда"? Потому что есть, в виде исключения, такие изобретатели, которые не думают о распространении своих изобретений. Я видел живой пример такого изобретателя-поэта. Это ныне умерший Ромуальд Божек, чех, очаровательный старичек, живший в Праге. Его квартира - прямо механический музей. Каких только курьезов там не было! Тут было двое часов, у которых весь механизм целиком быд вырезан из картона; тут было несколько часов, все в ходу, устроенных по самым удивительным принципам; тут была фисгармония, дудки которой были сделаны из бумаги; был особый музыкальный инструмент, в котором тоны брались от двух сирен; в шкапах и на шкапах стояла масса самых замысловатых механизмов. И все это выделано было изобретателем собственноручно: придумает, выполнит все сам, и ничего ему больше не надо.
Но такие примеры - исключения. Обыкновенно изобретение делается для того, чтобы люди им пользовались и чтобы сам изобретатель получил от него пользу. И это вполне разумно и справедливо. Для того существуют и законы о привилегиях.
О привилегии на свое изобретение всегда и думает прежде всего изобретатель. И действительно: перед выпуском в свет изобретение должно быть закреплено за изобретателем на основании законов о привилегиях. Но, не вдаваясь в юридическую структуру таких законов (различных в разных странах), мы теперь коснемся этого дела исключительно с точки зрения интересов изобретателя. Прежде всего возникаете вопрос: что в каждом данном изобретении надо привилегировать? Мы сейчас увидим, что это - вопрос далеко не праздный. Если бы изобретение исчерпывалось только одной вещественной конструкцией, то вопрос был бы излишним: опишите вещь и ее привилегируйте. Но в том-то и дело, что изобретение, т. е. то, что дает изобретатель, распространяется на нечто большее, чем вещь, а именно: на целый разряд однородных вещей, и желательно и вполне справедливо, чтобы изобретатель получил право на все конструктивные воплощения своего изобретения.
Изобретение всегда есть некоторая сущность, некоторое понятие. Вещь требует описания, а понятие требует определения. Здесь есть большая разница. В описании просто перечисляются составные части. Определение-же нарочно отвлекает внимание от неважных частей и сосредоточивает его на большей или меньшей "существенности" важных частей.
Разыскивая существенность частей в любом изобретении, стоящем перед нами в вещественном выполнении, мы прежде всего в мыслях отбрасываем: краски, формы, размеры, материал, толщину, вес и пр. (мы говорим, для ясности, о машине") и видим лишь совокупность линии: из машины мы извлекаем ея механизм, ея "схему". Это первая ступень того, что существенно в данном изобретении. Схватив мысленно схему, мы уже без труда видим, какия видоизменения в деталях несущественны для даннаго изобретения, другими словами, при каких конструктивных изменениях мы имеем дело все с тем-же изобретением? Но и это еще не все: в ряде родственных схем мы замечаем один общий принцип. Так, во всех четырехтактных моторах мы узнаем один принцип, по которому работает бензин (керосин, нефть, газ). Значить, идя путем отвлечения, мы доходим до еще более высокой ступени того, что существенно для даннаго изобретения, до его "принципа", или-что то-же, до его идеи.
Вот теперь и спрашивается: что собственно надо привилегировать: конструкцию изобретения? или схему (план)? или принцип (идею)?
В интересах изобретателя, т. е. в смысле наибольшаго расширения его прав, конечно, было-бы желательно закрепить за ним самый принцип. Тем самым изобретатель сделался-бы правомочным над всеми системами (схемами), в основе которых лежит присвоенный ему принцип, а также и над всеми конструктивными вариантами этих систем. Но всегда-ли может изобретатель закрепить за собою права в таких максимальных пределах? Это другой вопрос. Решать его приходится в каждом отдельном случае на основании следующих соображений.
Прежде всего надо решить: действительно ли изобретатель дал новый принцип? Это может решить только теоретически образованный знаток данной специальности. Мы предполагаем ответ утвердительный. Дальше надо решить: дал-ли изобретатель только один принцип, или вместе с тем наглядное доказательство того, что этот принцип может быть осуществлен и как его осуществить? Известно, что законы о привилегиях отказывают в закреплении за просителем одного голаго принципа, и очень понятно, почему. Предположите, что Бессемер захотел привилегировать вот что: "принцин прямого обезуглероживания чугуна путем вдувания в жидкий чугун воздуха", и что при этом он не дал никакого указания на прибор для такого процесса. Понятно, что при такой постановка вопроса надо отказать в привилегии: ведь, только конвертер Бессемера и доказал, что принцип осуществим на деле. Значить, рядом с принципом необходимо указать еще и на схему для его осуществления.
Но на схеме и кончается справедливое требование закона. В законах о привилегиях разных стран, хотя и в разных словах, но выставляется приблизительно одно и то же требование, которое сводится вот к чему: требуется такое описание изобретения, чтобы его вещественное выполнение было доступно для средняго знатока данной специальности и не требовало дальнейшаго творчества. Это ясно.
Мы разсмотрели процесс изобретения и видели, что в нем заметны три акта: создание принципа, выработка схемы и выработка конструкции. Из только-что сказаннаго мы выводим точное указание насчет того, в какой стадии своего создавания изобретение готово для привилегирования. В самом деле, пока совершен лишь первый акт, выясняющий еще только идею, привилегировать рано; когда-же совершен весь трехакт и выработана вся конструкция - поздно. А самое время для привилегирования изобретения наступает в конце второго акта, кorда выработана схема изобретения, общий план. Тогда, действительно, изобретатель высказался, и окончательное выполнение может быть поручено всякому специалисту, - чего и требует закон. Привилеггя закрепляет за изобретателем схему. И, подавая заявление о привилегии, надо описать только схему. Если заявитель опишет целую конструкцию, то он сузит свои права. Русский закон облегчает изобретателям привилегирование, выдавая за небольшую плату и не дожидаясь разсмотрения дела, "охранительное свидетельство". И вот, мы предполагаем изобретателя, который, с охранительным свидетельством в руках, вступает в торгово-промышленные сферы, с целью распространить свое изобретение (О том, как закрепить привилегею наиболышия права, автором готовится к печати особая книга, которая будет издана тем-же изд-ством "Образование").
Идя в той постепенности, какую мы замечаем в действительности, мы теперь предполагаем, что изобретатель выполнил изобретение в одном экземпляре и ищет такого фабриканта, который захочет изготовлять вещь для продажи. Общее правило: фабрикант никогда не встречает изобретателя с распростертыми объятиями. Почему? Очень понятно: ведь, фабрикант наладил изготовление других изделий, а всякое новое изделие требует и новаго налаживания. Затем, фабрикант не так легко верит новому товару. Он знает, что даже тогда, когда новый товар представляет большия преимущества перед старым, все-таки пройдет не мало времени, пока публика начнет его покупать, и что введение новаго товара стоит многих хлопот и затрат.
Так как мы все еще вращаемся в сфере удачи, то мы предполагаем, что фабрикант согласен вступить с изобретателем в сделку и уделить некоторую пользу изобретателю. Последнему, конечно, хочется получить побольше; к тому же он нередко сильно задолжал. Поэтому, он стремится продать свое изобретение совсем, получить сразу кругленькую сумму. Это самое невыгодное для изобретателя. Фабрикант, из осторожности, даст ему возможно меньше. Поэтому, если изобретатель, как говорится, может ждать, то выгоднее для него войти с фабрикантом в такую сделку, по которой фабрикант уплачивает столько-то со штуки. И фабрикант охотнее пойдет на такую сделку, потому что риск меньше.
Почти то же, что о фабриканте, можно сказать о продавце, которому предлагают для распространения новый товар. Новый товар, конечно, конкурирует с каким-нибудь старым товаром. Купец привык к старому товару и знает, сколько его идет и какому покупателю, и публика его знает и сама спрашивает.
Новаго товара ни он не знает, ни публика. Восхваляя новый товар, надо хулить старый. Это щекотливый пункт. Хорошо, если новый товар пойдет. А если нет? Придется опять хвалить прежний товар, который сам только что хулил. Ведь, продавцу надо только одно: получить барыш. А как и на чем барыш получается, "в высокой степени безразлично". Предположим даже, что купец воочию убедился в выгоде новаго товара. Значить ли это, что он сейчас же его возьмет? Только в том случай, когда он развязался со старым товаром. Это ясно.
Теперь о распространении изобретения в массе людей, в публике. Предположим, что ваше изобретение предназначено для большой публики, для семейнаго круга. Вы знаете, что толпа рутинна и отличается мизонеизмом, т. е. отвращением ко всему новому. Только новые моды на платья и шляпки дамы встречают с удовольствием. Но попробуйте предложить самовар новаго устройства. Правда, можно провести и самовар. Только надо, чтобы по внешности он елико возможно больше придерживался знакомых образцов. Для толпы внешность-самое важное. И даже больше того: то, в чем заключается новизна и преимущество, именно это нужно скрыть во внешности больше всего. Выходит как будто наперекор здравому смыслу, но это так.
Новую фотографическую бумагу надо упаковать в пакеты такой же формы и такого же цвета, как те, которые бойко идут. Мы говорим не о подделке надписей, говорим о стиле.
Стиль - вещь очень важная. Обратите внимание на дешевые фотографические аппараты. Они блещут никелированным прибором. А дорогие блещут черным шагренем и отсутствием всяких украшений. Граммофоны не выполняют в стиле физических приборов. Несмотря на большое сходство автомобильной кареты с каретой конной, стиль им придают разный. Книгу переплетают в разный цвет, смотря по тому, предназначается ли она для класснаго употребления, или для домашняго. Разные бумаги обрезаются по установленным форматам. Швейную машину украшают разными завитушками, но этого не делают с машинами, предназначенными для работы на фабрике. Фасаду концертнаго зала придают другой стиль, чем фасаду железнодорожнаго вокзала.
Вообще, внешняя отделка много значит. Даже дешевому ножевому товару стараются придать хорошую полировку. Внешность техническаго произведения должна вызывать уверенность, что вещь сделана не ремесленным, а фабричным путем. Затем внешность должна привлекать как раз того покупателя, на котораго товар разсчитан. О швейной машине мы уже говорили. То же можно сказать о земледельческих машинах; их раскрашивают в "веселые цвета": голубой, розовый, желтый, красный
Но и не одна внешность. Если земледельческая машина должна иметь успех у деревенскаго покупателя, то самая ея конструкция должна быть рудиментарная, грубая: нечего и думать о шариковых подшипниках, если машине предназначено быть в руках у простого мужика и чиниться в деревенской кузнице. И автомобиль для плохих дорог должен быть построен иначе, чем для хороших. В Англии даже самая лучшая печь не имеет больших шансов на успех, так как там почти повсеместно одни камины. Смешно трудиться над усовершенствованием самопрялки, раз эта машина вообще вымирает.
Если у вас новая мазь, или клей, или чернила, иди краска для яиц, то вы позаботитесь о том, чтобы ее паковать в баночку, флакон, оловянную трубочку, вообще, чтобы сама упаковка представляла удобство как для хранения, так и для употребления. Нет никакого сомнения, что многие из подобных товаров только благодаря целесообразной упаковке и распространяются.
Наконец, уже самое назвaниe товара тоже может помочь, а может и повредить распространению товара. Но здесь нельзя дать никаких указаний, здесь все зависит от чутья. И если у кого учиться искусству давать удачные названия, так это у французов.
Очень полезно толково составленное описание и наставление к употреблению. В этом надо учиться у американцев. У них все коротко и ясно, а потому и заманчиво. Не надо писать слишком много, чтобы не показалось сложно. Но там, где действительно дело не просто, где с новым приспособлением надо обращаться очень осторожно, там нельзя его бросить в публику без особых мероприятий. Так было сначала с ауэровскими сетками. Казавшееся невозможным приучение прислуги к обращению с ними явилось, на первых порах, непреодолимым препятствием к их распространению, пока венскому их представителю не пришло в голову запретить вообще покупателю касаться сеток, а в случае надобности вызывать агента по телефону. Этим путем публика оценила преимущества горелок Ауэра, а после выучилась и обращаться с ними.
Хотя публика вообще боится новшества, но временами, в отдельных областях, создаются такия условия, что публика набрасывается именно только на новизну. Это там, где замечается наплыв интересных изобретений. Так было в семидесятых годах с велосипедом, в восьмидесятых-с электротехникой, в настоящее время - с автомобилем и аэропланами. В такие бурные времена публика ждет: вот-вот появится такое, что затмит все, что было. Потом такая нервность проходит. Поэтому, в наши дни можно иметь успех с совершенно новым аэропланом, но нельзя распространить велосипед совершенно новаго вида.
Затем такие примеры. На одной ткацкой фабрики (в России), которая расширялась, купили ткацкие станки русскаго производства, хорошие станки, ни в чем не уступавшие заграничным. Рабочие объявили, однако, что на русском станке нельзя столько выработать, как на английском, потребовали прибавки и получили ее. Фабрикант решился на хитрость. На Пасхе, как известно, все рабочие получают разчет и разъезжаются, а на фабриках производится ремонт. И вот, во время этого ремонта, хозяин распорядился перевинтить фирменные доски с русских станков на английские и обратно. Paбoчиe этого не заметили. Тогда хозяин отменил прибавку.
Наконец, реклама. Это целое искусство, целый мир. Давно миновало то время, когда товары ждали покупателей; теперь товары ищут покупателя, его преследуют и на него нападают. Мы живем в век агрессивной политики даже в торговле. Прежде под словом реклама разумелось простое обнародование, ознакомление, теперь надо понимать навязывание. Хвалить товар надо умеючи, и если сам изобретатель не владеет этим искусством, то пусть поручит дело специалисту. Специалист, правда, иногда так начнет хвалить вещь, что самому производителю вещи станет совестно; но специалист знает, что публика недоверчива к рекламе, что она все равно поверит только на половину. Значит, хвали вдвое! В роде того, как иногда счета пишут вдвое, если знают, что плателыцик все равно скинет 50%.
Но реклама не всегда должна и хвалить. В Америке и во Франции взгляд такой: хоть брани, но только говори. Самая страшная вещь - это молчание. То, что бранит иной человек, мне скорее понравится, чем то, что он хвалит. Потом, брань дает повод к возражению. Если, например, вы утверждали в ваших проспектах, что ваша машина вырабатывает столько-то, между тем, как другой, работающий на вашей машине, говорит, что получает меньше, то вот вам случай начать новую рекламу: вы его упрекаете в том, что он работать не умеет, что вот такой-то и такой-то фабриканты работают гораздо успешнее и т. п. Бывали примеры, что сам фабрикант на свой товар выпускал каррикатуру. Летом 1908 года на улицах Парижа появился огромный плакат, на котором были изображены всв современные коронованные особы за общим столом, разгруппированные так, как группировался тогда "европейский концерт": Плакат невольно приковывал взоры своей талантливой карикатурой. За столом особы сидели потому, что кушали элексир фирмы NN. С точки зрения рекламы это, однако, был пересол: из десяти зрителей девять смотрело только на каррикатуру, вовсе не глядя на ярлык элексира. Этот пример показывает важность делового чутья.
Что касается до навязывания товара, то, кажется, здесь нельзя пересолить. Вам суют на улице в руки объявления. Вам в глаза всюду лезут плакаты. Город Венеция, одно время, весь превратился в один сплошной забор для плакатов: все стены опустелых дворцов пестрели объявлениями вовсе даже и не венецанских фирм, что делается понятным, если вспомнить, что через Венецию постоянно "тянут", как вальдшнепы, туристы всего света. Мне говорили, что эта мысль - превратить Венецию в сплошную публикацию, принадлежала одному человеку, и надо сказать, что это безобразие в Венеции теперь уничтожено. Но вот, что за границей надоедает: ежеминутно к вам в номер или на квартиру приходят люди, предлагающие всевозможные товары.
В числе приемов навязывания самый распространенный,- это дать на пробу. Какое-нибудь средство от котельной накипи, или машина дается на пробу, конечно, безплатно. Даже больше того: к уходу за новым приспособлением ставят своих людей, подкупают рабочих на фабрике, особенно, если желают получить благоприятный отзыв. Подкуп и так называемая "комиссия", т. е. определенный процент с покупки, в большом ходу во всех конкуррирующих между собой товарах. Нет директора фабрики, нет старшаго мастера, которые не пополняли бы свой бюджет этим способом, и даже вовсе не ко вреду хозяина, потому что и на хорошие товары тоже падают такие расходы, иначе они будут вытеснены плохими товарами, дающими еще больше дохода тем людям, которые с ними непосредственно имеют дело. В автомобильном деле весь свет знает, что шоффер имеет выгоду с каждой покупки: все равно, покупается хорошая ли или дурная шина, масло, бензин. Поэтому, шоффер заинтересован только в том, чтобы побольше расходовалось всего. На это зло давно обращено внимание, но до сих пор ничего против него не придумано.
Изобретателю, приступающему к распространению своего изделия, нельзя забывать того, что перечислено выше. Но изобретатели крайне редко бывают хорошими дельцами. Хотя практика распространения тоже вся зиждется на своего рода творчестве, но обыкновенно эти две области творчества не уживаются в одной душе. Вот почему в огромном большинстве случаев изобретателю необходимо соединиться с дельцом. Но при этом бывает, конечно, что делец загребает львиную долю. Такова уже судьба истаго изобретателя!
Продолжение
|

