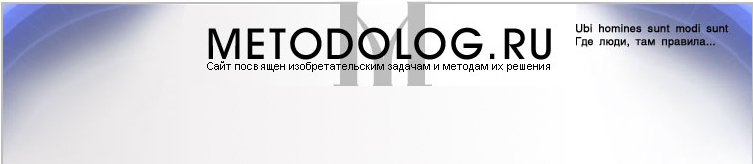
Главная |
Введение, главы 1-6
Загадочная логика Детектив как модель диалектического мышленияВольский Н.Н.Новосибирск, 1996
(Текст дается по изданию: Вольский Н.Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра. Новосибирск, 2006)
Лев Толстой
Введение 1. Детектив. Определение жанра и некоторые особенности его поэтики 2. Логика. Логическое мышление как главный герой детектива 3. Диалектика. Загадка как диалектическое противоречие 4. Заключительное определение детектива 5. Лестрейд, доктор Уотсон и Шерлок Холмс как олицетворение трёх уровней познания (догматизм, скептицизм, диалектика) 6. Диалектика "открытия" и диалектика "изобретения": два типа детективного сюжета 7. Диалектика "явления" и "сущности" в детективе
8. Категории "бытия" и "небытия" в детективе 9. Диалектическая теория истины. Истина как плодотворность 10. Ценность диалектики как метода Послесловие
7. Диалектика "явления" и "сущности" в детективе
Категории "явление" и "сущность" принадлежат к числу понятий, невольно возникающих в уме при попытке разобраться в том, что такое детектив и как строится детективный сюжет. В классическом детективе загадка состоит в том, что совершившееся преступление предстаёт перед читателем в виде запутанного комплекса фактов, событий, свидетельств, непосредственное восприятие которых не даёт понимания сущности происшедшего, оставляя без ответа главные вопросы: как произошло преступление? кто преступник? С другой стороны, правила построения детектива требуют, чтобы вся необходимая для решения загадки информация была предъявлена читателю в виде исходных фактических данных. Поэтому переход в детективе от загадки к разгадке должен естественным образом поддаваться описанию в терминах перехода от "явления" к "сущности". Противоположение понятий в категориальной паре "явление-сущность" можно рассматривать, по крайней мере, с двух точек зрения. 1. Будем называть "сущностью" некоторой вещи (события, ситуации и т.п.) то, что делает эту вещь самой собой, что необходимо присуще ей до тех пор, пока она остаётся тем же, что она есть, и при утрате чего она превращается в нечто иное. Если мы на вопрос: "Что это?", даём ответ: "Это - собака", то мы говорим о сущности описываемой нами вещи. Для того, чтобы быть истинным, наше суждение должно опираться на наличие у данной вещи некоторых существенных признаков (если это собака, то она должна иметь характерные для собаки лапы и морду, должна лаять, а не мяукать и т.д.). Таким образом, сущность вещи представляет собой некое "субстанциональное ядро" вещи, тот комплекс свойств (качеств, признаков), который позволяет говорить о вещи "это - собака" и отличать её от "не-собаки". Ясно, что далеко не всегда можно дать формально чёткое, выраженное в однозначных терминах определение комплекса свойств, составляющего сущность той или иной вещи. Я, например, не берусь описать, в чём состоит сущность "собаки", то есть наличие каких признаков позволяет назвать животное собакой, отличив его от других животных. Однако, какое-то интуитивное, практически приемлемое понимание сущности вещей, с которыми имеют дело люди, должно быть налицо, для того чтобы человек мог ориентироваться и действовать в окружающем его мире. Более того, у всех людей, пользующихся одним языком, это понимание сущностей должно быть достаточно близким, чтобы люди могли понимать друг друга при общении и передавать друг другу сведения о мире. С этой точки зрения на "сущность", противополагаемое ей "явление" включает в себя все качества (свойства) вещи, как существенные (входящие в состав "сущности"), так и те, которые не определяют вещь как таковую, наличие или отсутствие которых не меняет сущности вещи. Собака в нашем примере может быть большой или маленькой, чёрной или рыжей, породистой или дворняжкой, красивой или безобразной, но в любом из этих случаев она остаётся собакой, и истинность суждения "Это - собака" не зависит от наличия или отсутствия у данной вещи (собаки) перечисленных выше качеств. В этом смысле сущность собаки составляет лишь часть явления "собака". Набор признаков, составляющих сущность вещи, конечен, в то время как число всех качеств вещи - граней явления - принципиально бесконечно, и поэтому явление никогда не может быть описано полностью. В состав явления входит всё множество фактов, которые можно поставить в какую-либо связь с рассматриваемою вещью. Так, в описание явления "вот эта собака" можно включить такие качества, как "живущая на планете Земля" или "никогда не бывавшая на экваторе", и хотя эти определения чрезвычайно искусственны, тем не менее они могут быть истинными и входить в состав рассматриваемого явления. В обыденной жизни люди воспринимают лишь очень ограниченную часть предстающих перед ними явлений: лишь те признаки, которые позволяют опознать вещь (определить её сущность), и те, которые представляются им практически значимыми в конкретной ситуации (например, "это соседская собака, она не кусается"). Обычно они не замечают других качеств вещи, даже непосредственно воспринимаемых, не говоря уже о тех, суждение о которых может быть выведено на основании каких-либо косвенных свидетельств. В этом отношении Шерлок Холмс отличается от среднего обывателя тем, что он уделяет пристальное внимание обоим членам пары "явление - сущность". С одной стороны, он тщательно исследует все доступные ему - даже самые незначительные и, казалось бы, не относящиеся к делу - качества вещи, и, поскольку качества вещи (грани исследуемого явления) представляют собой отношения этой вещи с другими вещами, Холмс, благодаря этому, получает множество ценной информации о самых разнообразных предметах, каким-то образом соприкасавшихся с рассматриваемой вещью. Так, разглядывая часы доктора Уотсона, Шерлок Холмс приходит к поражающему доктора своей точностью выводу о том, что его старший брат был пьяницей и умер в нужде ("Знак четырех"). С другой стороны, пытаясь проникнуть в сущность какой-либо вещи, суть которой не может быть усмотрена непосредственно из-за отсутствия прямых свидетельств, Шерлок Холмс неутомимо рассматривает столь широкий круг фактов, что для среднего человека они кажутся никак не связанными с исследуемой вещью. Блестящим примером продуктивности такого поведения может быть эпизод из "Собаки Баскервилей", связанный с двукратной пропажей в гостинице ботинок, принадлежавших сэру Генри. В этот момент для Шерлока Холмса чрезвычайно важным был вопрос о сущности явления, описываемого как "баскервильская собака". Имеющаяся у него информация могла быть истолкована как в том смысле, что в событиях участвует реальное животное (об этом говорили следы собачьих лап на месте смерти сэра Чарльза, собачий вой, доносящийся с болот), так и в том смысле, что пресловутая собака представляет собой лишь продукт воображения суеверных местных жителей, миф, коренящийся в старинной легенде о тяготеющем над родом Баскервилей проклятии и умело поддерживаемый преступником в своих целях. Ответ на вопрос о сущности "баскервильской собаки" Шерлок Холмс получил, правильно оценив связь указанного эпизода с интересующим его явлением. Пропажа одного за другим коричневого, а затем чёрного ботинка сэра Генри (факт совершенно бессмысленный с точки зрения ординарного здравого смысла - кому нужен один ботинок из пары?) с точки зрения великого сыщика однозначно описывает существенное свойство "баскервильской собаки": если для воздействия этой "собакой" на жертву преступник нуждается в вещах, которые носила жертва, значит это не фантом, не миф, а реальная собака из плоти и крови. 2. Теперь рассмотрим категориальную пару "явление - сущность" с несколько иной точки зрения. При этом противоположение категорий осуществляется в системе координат, в которой "явление" соответствует таким понятиям как "явное, открытое, непосредственно воспринимаемое, поверхностное, внешнее", а "сущность" - таким как "скрытое, неочевидное, глубокое, внутреннее". С этой точки зрения, чтобы проникнуть в сущность вещи, с неё надо как бы снять внешнюю оболочку, в которой она является познающему субъекту, и углубиться в её - часто не воспринимаемое чувственно - содержимое, в расположенное внутри явления "ядро", только достигнув которого, можно понять, что представляет собой вещь "по существу". При этом не следует, естественно, понимать термины "внешнее" и "внутреннее", как описывающие некоторую физическую реальность, как пространственное расположение "явления" и "сущности". Явление - это не коробка, в которой скрывается сущность, и говоря о том, что сущность находится в глубине явления, мы лишь метафорически описываем путь познания сущности вещей. Хорошим и часто используемым для иллюстрации примером вышесказанного может служить такая вещь как деньги. Та внешняя физическая оболочка, в которой являются субъекту деньги - золотые монеты, раковины каури или банкноты, - не позволяет непосредственно усмотреть то, что делает эти предметы деньгами. Никакое физическое или химическое исследование золотой монеты не может обнаружить в ней общей всем видам денег "денежной материи" (субстанции стоимости), и лишь целостное рассмотрение явления "деньги", то есть того, какую роль играют деньги в функционировании человеческого производства и обмена, позволило многим поколениям мыслителей шаг за шагом выяснить сущность денег. Подход к рассмотрению пары "явление-сущность" в аспекте противоположения "явного" и "скрытого" нисколько не противоречит ранее описанному подходу к ней с точки зрения сущности как существенной части явления. Несомненно, что после того, как скрытая сущность какой-либо вещи будет выяснена ("выявлена"), она предстанет как часть явления, хотя и особая - существенная - его часть. Но не противореча друг другу, эти подходы раскрывают две точки зрения на соотношение явления и сущности: при первом подходе внимание познающего субъекта концентрируется на результате познания, при втором - на первый план выступает сам процесс познания сущности, его сложность и противоречивость. Эта точка зрения подчёркивает, что сущность наблюдаемых нами явлений далеко не всегда очевидна и распознаваема с первого взгляда, во многих случаях для её постижения требуются значительные усилия, которые к тому же часто оказываются безуспешными. Безусловно, для детектива характерен именно такой подход к соотношению рассматриваемых категорий: в центре детективного сюжета всегда стоит "загадочное явление", сущность которого предстоит выяснить сыщику и, соответственно, решить загадку. В этой плоскости рассмотрения явление предстаёт перед нами как некая вещь (шире, как некая часть реальности, как "нечто"), но поскольку сущность её для нас скрыта, мы не можем сказать, что это за вещь. Мы не воспринимаем эту вещь и не можем её определить и описать. С другой стороны, мы всё же что-то видим, что-то нам "предъявлено", и следовательно, мы видим какую-то другую вещь, то есть мы видим одно, а в сущности перед нами нечто иное. Говоря о том, что мы видим то-то и то-то, мы приписываем видимому нами некую сущность, и следовательно, усматриваем в явлении "ложную сущность", в то время как "истинная сущность" данного явления остаётся для нас скрытой. По терминологии Гегеля такая "ложная сущность" называется "видимостью". При этом противоположность "явления" и "сущности" заменяется противоположностью "видимости" и "сущности" внутри охватывающего обе стороны этой противоположности "явления". В данном случае предполагается, что "нечто", сущность чего скрыта от нас, является нам в виде чего-то "иного", что на самом деле несущественно, но эта "видимость" воспринимается нами как непосредственно данное, заслоняя "истинную сущность" того, что мы видим. Сразу следует сказать, что противопоставление "истинной" сущности тому, что мы называем "ложной" сущностью (видимостью) не может лежать в плане их соответствия (или несоответствия) фактам. Поскольку, как мы уже установили, переход от видимости к сущности (от загадки к разгадке в детективе) должен происходить путём диалектического снятия, то есть с сохранением фактической истинности первоначального (противоречивого и загадочного) описания ситуации, то видимость так же соответствует фактам (и в этом смысле так же истинна), как и скрываемая ею сущность. Естественно, возникает вопрос: каким же образом, будучи истинной, видимость может вводить в заблуждение и скрывать "ещё более истинную" сущность? Другими словами, утверждая, что сущность данного явления представляет собой нечто "иное", чем то, что мы видим (это только видимость), мы отрицаем видимое (то есть, утверждаем ложность этой видимости) и в то же время признаём фактическое наличие (истинность) всех элементов этой видимости ("всё было именно так, как мы это видели"). Я вижу два возможных ответа на этот вопрос. Во-первых, видимость может оказаться привычной маской необычных фактов. Если на пороге стоит человек, одетый в форму почтальона, и протягивает мне газету, то впоследствии я могу с полной убеждённостью утверждать, что приходил почтальон и что я видел это собственными глазами. Переход от воспринимаемых признаков к сущности явления здесь настолько привычен и банален, что выступает в виде непосредственного восприятия сущности, хотя самый существенный факт, определяющий принадлежность видимого мной человека к "почтальонам", остаётся мне неизвестным. Чтобы с полным основанием назвать этого человека "почтальоном", нужно было бы выяснить, является ли он служащим почты, а этого, разумеется, сделано не было. Напротив, если меня затем спросят: "А служит ли этот человек на почте?", для меня будет естественно ответить: "Конечно. Где же он ещё может служить, если он почтальон?". В таких случаях суждение о сущности предмета основывается на восприятии не его существенных признаков, а каких-то других признаков, которые в обычных условиях тесно связаны с признаками, определяющими сущность данного предмета. Но какой бы тесной ни была эта связь, между тем, что мы видим, и сущностью видимого остаётся разрыв, который мы перескакиваем, сами не замечая этого, благодаря дополнительному умозаключению, основанному на привычной связи признаков. Именно привычность, а отсюда и неосознаваемость перехода от видимости к утверждению о сущности даёт возможность одним вещам маскироваться под другие вещи, в сущности от них отличные, но обладающие сходными внешними признаками. В детективе наличие таких признаков - маски - часто обусловлено сознательными действиями преступника, скрывающего свою истинную сущность и сущность своих намерений и поступков. В рассказе "Пляшущие человечки" гангстерская шайка пользуется шифрованными посланиями, где буквы изображены значками в виде схематически нарисованных человечков. Большинство людей, столкнувшись с этими значками, принимают их за плод художественного творчества какого-нибудь мальчишки, так как они намеренно стилизованы под детские каракули. И только Шерлок Холмс, усомнившись в детском происхождении этих значков, сумел разгадать смысл замаскированных под детские рисунки записок и найти их автора. Таких примеров можно привести сколько угодно. В определённом смысле каждый преступник должен носить маску добропорядочного, законопослушного человека, иначе для его поимки не требовалось бы никакого расследования. В детективах преступником часто оказывается персонаж с самой добродушной внешностью и незапятнанной репутацией, а не тот, на которого в первую очередь падает подозрение - шалопай, драчун и гуляка. Поэтому сыщик должен разглядеть за маской преступную сущность персонажа и разоблачить его, либо доказав его причастность к преступлению, либо подстроив ему какую-нибудь ловушку, заставляющую преступника показать своё истинное лицо. Несмотря на широкую распространённость сюжетов, в которых используется этот вариант "перехода от видимости к сущности", он не представляет особого интереса как для детектива, так и для диалектики. В большинстве случаев для того, чтобы предположить несоответствие между непосредственно воспринимаемыми нами фактами и суждениями, которые мы из них выводим, достаточно лишь внимательно проанализировать процесс формирования наших окончательных выводов и выявить участие в нём обычно неосознаваемых предпосылок, которые основаны на привычном порядке событий, но в данной ситуации могут оказаться и ложными. Такая логическая реконструкция происшедшего, хотя и не всегда приводит к выявлению истинной сущности, по крайней мере, разрушает скрывающую её видимость. Но чем больше возможностей для логического (рассудочного) решения проблемы, тем меньшую роль в её решении играет неожиданный и неподдающийся программированию выход в другую плоскость понимания, то есть диалектика. Гораздо больший интерес представляет второй вариант ответа на ранее поставленный вопрос: как могут быть одновременно истинными и "видимость" и "сущность"? В общем виде, ответ на этот внешне хитроумный вопрос очень прост. Возьмём какой-нибудь материальный предмет, который легко идентифицировать, и сущность которого, следовательно, не вызывает никаких сомнений у воспринимающего субъекта. Например, как предлагал Чехов, пепельницу. Предположим, что в ней нет никаких тайников и скрытых механизмов, и она представляет собой именно то, чем кажется с первого взгляда, - простой массивный кусок мрамора, соответствующим образом обработанный и используемый в качестве пепельницы. Каким же образом она может быть чем-то иным и скрывать свою сущность под видимостью пепельницы? Рассмотрим свойства, которыми она обладает, будучи пепельницей. Она мраморная, тяжелая, серая, квадратная, полированная, подаренная хозяину в день рождения, красивая, дорогая, старинная, холодная, стоящая на столе, пустая, вымытая, французская, треснувшая, любимая хозяином, напоминающая о прежних счастливых днях и т.д., и т.п. Все эти упомянутые и неупомянутые свойства описывают явление "пепельница" (составляют часть этого явления), но все эти свойства несущественны. Вещь могла бы быть совсем другой (не мраморной, а пластмассовой; не пустой, а заполненной окурками и т.п.), не изменяя своей сущности и оставаясь тем, что она есть - пепельницей. Совокупность её реальных свойств - лишь один из бесчисленных возможных вариантов, в которых данная сущность - "пепельница" - может быть "явлена" миру и нам, воспринимающим этот мир субъектам. Однако, посмотрим на этот же предмет с другой стороны, например, с точки зрения того, что этот предмет красивый. Тогда сущность этого предмета будет заключаться в том, что это "произведение искусства". Или выдвинем на первый план то, что этот предмет был кем-то подарен его нынешнему хозяину, тогда его сущность - "подарок". С этой точки зрения то, что подарок представлен в данном случае в виде пепельницы оказывается несущественным свойством подарка, одним из возможных вариантов, в котором является подарок. Таким образом, при изменении взгляда на вещь она предстаёт перед нами как другая по своей сути вещь, и акцентирование внимания на одной из бесчисленных граней явления ведёт к смене одной сущности другой сущностью. Но при таком переходе то, что было сущностью вещи с прежней точки зрения, становится "ложной сущностью", видимостью, скрывавшей за собой то, что мы считаем сущностью этого явления в настоящий момент. Следовательно, соответствие фактам нашего прежнего суждения о вещи не противоречит тому, что мы можем увидеть в этой же самой вещи нечто иное, более для нас существенное. Так, если расследуя убийство, сыщик сталкивается с тем, что убийца унёс с собой пепельницу, оставив в комнате гораздо более ценные вещи, взгляд на унесённую вещь как на "пепельницу" ничего не даёт для понимания ситуации. Но если увидеть за "пепельницей" другую вещь, а именно "тяжелый предмет", использованный как "орудие убийства" и представляющий "важную улику", то поведение преступника становится понятным и логичным. (Совершенно аналогичный случай был разобран нами на примере рассказа "Шесть Наполеонов": для разгадки нужно было увидеть за "бюстом Наполеона" истинную сущность вещи - "кусок гипса", в который была спрятана жемчужина). Возможно, в другой ситуации это будет неверным, и тогда понимание сущности этой вещи как "тяжелого предмета" будет видимостью, вводящей нас в заблуждение, а существенным признаком вещи (то есть определяющим в данном контексте её сущность) окажется принадлежность её кому-либо (сущность = "собственность"), или её художественная или историческая "ценность", или то, что она - "наследство", или ещё что-нибудь. Важно отметить, что когда мы видим нечто и даже подозреваем, что это лишь видимость, и пытаемся рассмотреть за ним сущность чего-то иного, не поддающуюся распознаванию с первого взгляда, мы не можем заранее знать, в чём будет обнаружена искомая сущность (то есть какое из свойств вещи, будет признано существенным в данной ситуации), и не существует никакого рецепта (общего правила, алгоритма), позволяющего определить её на уровне рассудочного "вычисления истины". Всякий раз выбор нужной нам сущности из бесчисленного количества возможных вариантов должен быть незапрограммированным открытием. Поскольку все свойства вещи выражают в свёрнутом виде её отношения с другими вещами, выделение существенного свойства означает выбор такой проекции реальности, в которой непосредственно выступают связи вещей, кажущихся с других точек зрения несвязанными. Пока мы видим вещь в другой проекции, эти связи для нас не существуют, и мы не можем заранее оценить их значимость (существенность или несущественность) для решения наших проблем. Поэтому, когда мы находим искомую проекцию реальности, совершая переход от "видимости" к "сущности", это означает выход в новое измерение реальности, диалектическое снятие, позволяющее разрешить ранее неразрешимую задачу. В рассказах о Шерлоке Холмсе множество ситуаций, прекрасно иллюстрирующих диалектический переход от явления к сущности. Обнаруженная в пруду груда ржавого металла, ни в чём не меняя своего физического состояния, превращается при правильном выборе точки зрения в ценнейшую историческую реликвию - корону английских королей, - и это сразу же объясняет, почему умный, рассудительный человек готов был рискнуть жизнью и своим честным именем, чтобы заполучить эти "железки" в свои руки ("Обряд дома Месгрейвов"). Ещё неожиданнее скачок мысли, разрешающий загадку в рассказе "Союз рыжих". По всей видимости, той определяющей чертой, благодаря которой герой рассказа вступил в "Союз рыжих" и получил завидно оплачиваемую работу, является уникальный цвет его волос. Сущность этого человека в том, что он - "рыжий". Это свойство персонажа очевидно. Более того, у него самого и у окружающих не возникает сомнений в том, что именно это свойство оказалось самым существенным в данной ситуации - не будь он рыжим, его просто не приняли бы в пресловутый "Союз". Но на самом деле это только видимость, и беспрецедентный "яркий, ослепительный, огненно-рыжий" цвет его шевелюры оказывается бросающимся в глаза, но малосущественным признаком, которым преступник с ловкостью фокусника отвлекает внимание просвещённой публики от сути происходящего. Поставив в центр внимания связь, существующую между этим человеком, определённым домом и неким рядом расположенным банком, Шерлоку Холмсу удаётся выяснить самое существенное в данном контексте свойство "рыжего", обеспечившее ему синекуру. Сущность этого человека - "хозяин дома"; дома, из подвала которого преступники ведут подкоп в банк. Так же выясняется и сущность работы, которую выполняет герой. Только по видимости, она состоит в переписывании "Британской энциклопедии", а в сущности, он получает хорошие деньги за то, что несколько часов в день он проводит вне дома, не мешая преступникам делать своё чёрное дело (аналогичные загадки использованы Конан Дойлом в рассказах "Три Гарридеба" и "Случай с клерком"). Следовательно, всякому явлению соответствует бесконечное (в потенции) число сущностей, каждая из которых определяет некую - отличную от всех других - вещь. Видя в явлении одну вещь, мы должны быть готовы к тому, что при изменении точки зрения она может превратиться в другую вещь, и бессмысленно спрашивать, каково это "нечто", находящееся перед нами, "само по себе". У явлений нет абсолютных сущностей, не зависящих от точки зрения субъекта, но, если так можно выразиться, они представляют набор "потенциальных сущностей", каждая из которых не менее реальна, чем все остальные. Поэтому противопоставление "видимости" и "сущности" ситуативно, и при перемене ситуации то, что было "видимостью" может стать скрытой "сущностью", которая скрывается под видимостью прежней сущности. Явление как бы поворачивается к нам то одной, то другой гранью, и при этом видимость и сущность меняются местами в зависимости от точки зрения, с которой мы воспринимаем это явление. Для иллюстрации этих взаимоотношений между "видимостью" и "сущностью" рассмотрим сюжет рассказа "Человек с рассечённой губой", написанного как будто специально для наших целей. Вкратце, сюжет заключается в следующем: К Шерлоку Холмсу обращается жена некоего Невилла Сент-Клера, который исчез при очень странных обстоятельствах. Будучи деловым человеком, он, как обычно, уехал по делам в Сити, но днём жена случайно увидела его, стоящим у окна какого-то подозрительного дома на берегу Темзы. Она видела, как её муж взмахнул руками и внезапно исчез в глубине комнаты, как будто его насильно оттащили от окна. Испуганная жена вызвала полицию и добилась, чтобы её пропустили в дом и позволили осмотреть комнату, в которой она видела своего мужа. Однако, в комнате Сент-Клера не оказалось, там обнаружили только калеку безобразной внешности, с оранжево-рыжими волосами и лицом, изуродованным чудовищным шрамом, нижний конец которого рассекал нижнюю губу. Этот малопривлекательный субъект был к тому же ужасно грязен и одет в лохмотья. Как выяснилось, это был известный многим лондонцам профессиональный нищий Хью Бун. При тщательном обыске в комнате нашли принадлежавшую Сент-Клеру одежду, а на подоконнике окна, которое было расположено непосредственно над водой канала, обнаружили следы крови. Несмотря на уверения Буна в том, что он не знает никакого Сент-Клера, а следы крови объясняются его пораненным пальцем, полиция арестовала нищего по подозрению в убийстве. Правильность этих действий подтвердилась, когда после отлива в канале был обнаружен пиджак Сент-Клера, в карманах которого нашли множество мелких медных монет. Вполне естественно, полицейский инспектор предположил, что, стремясь избавиться от улик, нищий выбросил тело убитого им человека в воду канала и начал выбрасывать туда же его одежду. Течением тело унесло в реку, а тяжело нагруженный медью пиджак остался на дне канала. Казалось бы, цепь неопровержимых улик не оставляет в данном случае никаких сомнений в судьбе исчезнувшего господина и полностью изобличает нищего Буна в совершённом им убийстве. Но после всего этого жена Сент-Клера получила записку, написанную якобы её мужем, в которой он просил её не беспокоиться и обещал в скором времени вернуться домой. Самое невероятное в том, что жена узнала почерк Сент-Клера и была уверена, что он жив. Необъяснимость ситуации и противоречивость фактов оставляют надежду только на помощь Шерлока Холмса, и безусловно, эта надежда сбывается. Великий сыщик решил эту головоломку исключительно логическим путём, не предпринимая никаких действий, а просидев всю ночь на диване и выкурив полфунта табака. Разгадка заключалась в следующем: На самом деле не было никакого убийства, Сент-Клер, действительно, жив, и найти его не стоит никакого труда, достаточно смыть грязь и снять грим и парик с так называемого "нищего Буна". Оказывается, соблазнённый легкостью, с которой можно получать деньги с помощью нищенства, Сент-Клер, бывший до этого репортёром, так втянулся в это занятие, с которым он познакомился, когда писал очерк о нищих, что сделал его своей основной профессией. Изо дня в день он ездил как бы по делам в город, а сам в снятой для этой цели комнате на берегу Темзы с помощью грима и переодевания в одежду нищего преображался в Буна, проводил свой "рабочий день" на тротуаре и затем снова возвращался в обличье солидного делового человека, так что ни его жена, ни соседи не подозревали о его двойной жизни. Так продолжалось в течение многих лет, до тех пор пока жена случайно не застала его в момент переодевания и не поставила его в очень трудное положение. Не имея возможности сказать правду, он был вынужден сесть в тюрьму по подозрению в убийстве самого себя. Как видно, в этом сюжете использованы все разобранные нами моменты взаимоотношений между "явлением" и "сущностью". Не было никакого убийства, напрасно искать тело жертвы в иле и грязи на дне Темзы, его там не было и нет, более того подозреваемый в убийстве "нищий" вообще не существует: это лишь видимость, создаваемая маской (в данном случае понимаемой буквально: парик, грим, кусочек пластыря, создающий видимость рассечённой губы и до неузнаваемости меняющий облик человека, искусственная хромота) и скрывающая истинное лицо Сент-Клера. Практически все детали сюжета, образующие загадку и в качестве неопровержимых улик обосновывающие версию убийства Сент-Клера, оказываются при изменении точки зрения лишь несущественными элементами явления, за которыми спрятана истинная сущность пресловутого "нищего" и "убийцы". Маска нищего была задумана героем рассказа для того, чтобы скрывать свою двойную жизнь, чтобы раздваиваться на "нищего Буна" и "джентльмена Сент-Клера". До тех пор, пока эти две жизни шли параллельно, нигде не пересекаясь и не сталкиваясь, пока разные люди видели либо только одну, либо только другую грань явления "Сент-Клер", маска успешно выполняла свою функцию и приносила своему владельцу солидный, не облагаемый налогами доход. Но волею случая эти жизни пересеклись, человек из одной жизни - жена Сент-Клера - столкнулся с краешком другой жизни, и здесь "видимость" стала противоречивой, она раздвоилась уже в одной жизни. Благодаря маске один и тот же человек воспринимается окружающими и как "убийца", и одновременно как его "жертва". Однако, элементы видимости так хорошо подогнаны друг к другу, видимость так "непрозрачна", что ни полиция, ни жена Сент-Клера не замечают противоречивости возникшей ситуации, и только появление записки от "убитого" Сент-Клера создаёт противоречие в осознаваемых окружающими фактах и детективную загадку. Вскрыв истинную сущность "нищего", Шерлок Холмс решает загадку. Рассказ Конан Дойла на этом кончается, как это и полагается детективу, но мы, зная об относительности всякого суждения о сущности, можем пойти дальше и попытаться ещё раз "перевернуть" соотношение между видимостью и сущностью, то есть найти такую точку зрения, при взгляде с которой то, что мы считали видимостью, станет истинной сущностью, а прежняя сущность разоблачит себя как видимость. Сюжет "Человека с рассечённой губой" хорош именно тем, что в своём подтексте потенциально содержит такое превращение. Если взглянуть на описанную ситуацию в более широком контексте, чем это предполагают рамки рассказа, и уже зная решение загадки, то вывод о сущности персонажа, фигурирующего в рассказе то как "мистер Невилл Сент-Клер", то как "нищий Бун", может быть прямо противоположным тому, что утверждалось выше. Действительно, как следует определить сущность человека, который много лет нигде не работает, систематически добывает себе средства к существованию нищенством и использует для этой цели ряд специфических актёрских приёмов, возбуждающих интерес и жалость публики? На этот вопрос не может быть иного ответа, кроме того, что по сути своей этот человек - "профессиональный нищий". В этом заключается его социальное положение, его психология, этим определяется отношение к нему окружающих. Но тогда обличье добропорядочного обывателя, которое он имеет в свободное от нищенства время, служит ему лишь маской, обеспечивающей нищему ненадлежащий ему социальный престиж и скрывающей его настоящее место в обществе. Внезапное разоблачение знакомого нам джентльмена как нищего может шокировать, но если мы увидим знакомого нам нищего в маске благопристойного буржуа, то это не вызовет никакого удивления. Это является самым обычным делом, и люди презираемых "профессий" - нищего, вора, проститутки - как правило, пользуются такой маскировкой, облегчающей им жизнь вне сферы "профессиональной деятельности". Таким образом, добропорядочного джентльмена Сент-Клера давным-давно нет, а в его телесной оболочке и под его именем прячется совсем другой человек - "нищий", незнакомый тем людям, которые когда-то знали мистера Сент-Клера. Они встречаются теперь с "видимостью" Сент-Клера. Но куда же делся истинный Сент-Клер? Ведь когда-то он существовал. Если человек существовал, а теперь не существует, возможен лишь один вывод: он умер. Учитывая все обстоятельства дела, можно сказать, что он не просто умер естественной смертью от природных причин, а был убит - и убит "нищим", вытеснившим его из жизни, захватившим его имя и внешность и использующим их как маску. Следовательно, убийство, которое мы считали "видимым убийством", в сущности произошло, и "нищего" можно по праву назвать убийцей "мистера Сент-Клера", хотя и не совсем в том смысле, который придавали этим словам полицейские, расследовавшие дело. Правда, это убийство произошло не в то время, которое предполагал полицейский инспектор, и долго скрывалось убийцей до тех пор, пока улики волей случая не всплыли на поверхность, но даже детали разоблачённого как "видимость" мнимого убийства в сущности те же, что и обстоятельства "истинной" гибели мистера Сент-Клера: он, действительно, утонул в грязи, утянутый на дно жизни маленькими, но такими тяжёлыми, когда их много, медными монетками, падающими в шляпу и рассованными по карманам "нищего". Маска нищего (видимость), использованная им сначала как прикрытие реальности, стала его истинной сущностью, а бывшая сущность деградировала до видимости, маскирующей происшедшее изменение.
8. Категории "бытия" и "небытия" в детективе
Одной из характерных особенностей классического детективного повествования можно считать резкий, часто намеренно подчёркиваемый, контраст между описанием обыденной жизни, служащей фоном, на котором разыгрываются события, и описанием конкретных происшествий, непосредственно участвующих в образовании детективной загадки. Очень часто описанию факта преступления или неких таинственных событий предшествует экспозиция, представляющая мирное течение жизни в какой-то устоявшейся среде, с самыми обыкновенными персонажами, которые руководствуются в своих действиях простыми, стандартными мотивами поведения. Вообще, в этой жизни господствует отсутствие каких-либо сомнений в реальности того, что находится перед глазами. Автором подчёркивается плотность вещественной и социальной ткани, образующей бытие персонажей, устойчивость этого бытия, его предсказуемость. Мир обжит, он соответствует тому, что должно быть, что было всегда, поскольку обусловлено определёнными, большей частью понятными как персонажам, так и читателю, закономерностями. То, что существует, то существует несомненно и при этом соответствует своему понятию: пепельница - это пепельница, предмет с вполне ясным предназначением и свойствами; старушка - это старушка, согласно обычному представлению она должна быть ворчливой, но в сущности доброй, она такая и есть. Она может оказаться сплетницей или покровительницей бездомных кошек, но она не может быть главой банды или развлекаться битьём соседских окон из рогатки, таких старушек просто не бывает, подобное поведение несовместимо с нашим понятием о "старушке". И когда на этом фоне устоявшегося и устойчивого бытия возникает что-то необычное, непредсказуемое, то, чего не должно быть в нашем мире, например, убийство, оно воспринимается как феномен из другого, "потустороннего" мира, как выход в иную реальность, подчиняющуюся своим собственным законам и отрицающую реальность привычного нам мира. При этом обыденное бытие не исчезает, оно остаётся реальным, оно по-прежнему "есть": люди живут прежней жизнью, они такие же, как и были, вещи исполняют свои функции, в основном, всё продолжает "быть". Но в этой реальности появляется трещина, разлом, все соприкасающиеся с преступлением факты, становятся сомнительными, возникает вопрос об их действительном бытии. Если все вокруг порядочные, благоразумные люди, если они живут той жизнью, которую мы видим, то кто же совершил убийство, ведь оно тоже несомненно "есть", как "есть" привычная нам действительность. Можно сказать, что с момента преступления реальность раскалывается на два участка, в центре каждого из которых бытие несомненно, но поскольку эти реальности "не стыкуются", на их границе возникает особое состояние неопределенности бытия. Люди, вещи, их свойства и состояния становятся зыбкими, текучими, невозможно с точностью определить, "есть" они или их всё же "нет". Благодаря этой неопределенности бытия создается характерная для детектива психологическая атмосфера тревожного ожидания какой-то неясной опасности, не связанной с конкретными предметами, людьми или ситуациями, и от этого тем более страшной. Страх охватывает человека не потому, что ему или его близким угрожает некая конкретная опасность, а потому, что, фигурально выражаясь, у него "почва уходит из-под ног". Опасным может оказаться самый обыденный, привычный предмет. Каждый из окружающих, которым человек привык доверять, может оказаться преступником (но в то же время он может оказаться и жертвой). Неясно, кто есть кто, кого следует опасаться, а от кого ждать помощи. Жидкость в стакане должна быть лекарством, но не исключено, что на самом деле это смертельный яд. Все те твердые правила, на которые мы опирались в обыденной жизни, в такой ситуации теряют свою незыблемость, все становится неопределённым, и естественным следствием этой "утери почвы под ногами" оказывается страх. Известно, что первой эмоцией, которую можно зафиксировать у детей в младенческом возрасте (вскоре после рождения), является эмоция страха, инстинктивно возникающая у младенца при утрате им чувства опоры, если ребенка внезапно выпускают из рук. И точно с такой же неизбежностью возникает эта эмоция у людей, теряющих чувство уверенности в окружающей их реальности. Эту аналогию можно продолжить. Распространённая забава для детей несколько более старшего возраста заключается в том, что взрослый подбрасывает ребенка к потолку, а затем вновь ловит его на руки, и это сопровождается восторженным смехом играющего ребенка. Удовольствие, которое получает малыш от этой игры, несомненно, связано с тем, что, потеряв равновесие, ребенок испытывает непроизвольный страх, но тут же, не успев ещё осознать эту эмоцию, он чувствует удовольствие от вновь обретённого ощущения прочной опоры и устойчивости своего положения. Если страх невелик и удовольствие преобладает, то игра получается увлекательной. Напрашивается естественное предположение, что психологический механизм, участвующий в возникновении удовольствия, ощущаемого читателем хорошего детектива после того, как он закрывает прочитанную книгу, обусловлен аналогичной схемой воздействий. Читатель, увлечённо следящий за развитием событий в детективе, испытывает чувство напряжения и тревожности вследствие того, что ему не удаётся свести все происходящие события в непротиворечивую картину реальности, в которой то, что "есть", чётко отделено от того, чего "нет". Поэтому после разрешения загадки и появления картины, в которой вновь становится ясно, "кто есть кто", читатель, даже осознавая вымышленность и "литературность" ситуации, испытывает невольное облегчение и связанное с этим удовольствие. В рассказах о Шерлоке Холмсе хорошим примером описанного выше феномена "неопределённости бытия" и вытекающего из него чувства неясной, но мучительной тревоги может быть положение, в котором очутилась героиня рассказа "Пёстрая лента". Молодая женщина обратилась к Шерлоку Холмсу с подозрениями, не совсем понятными ей самой. Она не может толком объяснить, какая конкретная опасность ей угрожает, чего она, собственно, боится. Её страх связан с тем, что она оказалась в ситуации, напоминающей ту, в которой была её сестра, внезапно умершая два года назад при загадочных обстоятельствах за две недели до собственной свадьбы,. Героиня не может обратиться в полицию, потому что, по сути дела, она не состоянии указать никакой определённой опасности, никто и ничто не угрожает её жизни, она молода и здорова, живёт в мирной, хотя и тягостной для неё, обстановке, и намеревается в скором будущем изменить её к лучшему, выйдя замуж за человека, которого она любит. Правда, её отчим, с которым она живёт в одном доме, крайне неприятный, жестокий человек и плохо к ней относится, так что она подозревает его в самом худшем, но он тоже не сделал и не делает ничего такого, что могло бы свидетельствовать о явной исходящей от него опасности, тем более, что вскоре героиня собирается расстаться с ним и выйти из-под его власти. В целом, ситуация не даёт никаких рациональных оснований говорить о наличии серьёзной опасности. И тем не менее женщина испытывает панический страх, вынуждающий её обратиться за помощью к знаменитому детективу. Если внимательно проанализировать ситуацию, то приходишь к выводу, что необходимым условием возникновения этого чувства страха является, как это ни парадоксально звучит, отсутствие конкретной опасности. Точнее сказать, ситуация, рассмотренная в виде отдельных составляющих её деталей, внешне представляется безопасной, но именно это и вызывает страх: ведь её сестре также не угрожала никакая конкретная опасность, и всё же она внезапно умерла, а причина её смерти осталась невыясненной. Следовательно, если ситуация, в которую попала героиня, напоминает ту, в которой была её сестра, то опасность на самом деле есть, но она невидима, её нельзя связать с чем-то определенным, чего следует бояться, отделив его от того, что безопасно. Поэтому всё вокруг становится опасным, всё вызывает страх. У человека, оказавшегося в таком положении, важнейшей потребностью становится оценка любых предметов с точки зрения, выражающейся оппозицией "опасно-безопасно", но поскольку невозможность как-то охарактеризовать направление, с которого угрожает опасность, исключает рациональные основания для такой оценки, его отношение к окружающему миру становится неопределённым, управляемым одновременно существующими и противоположно направленными импульсами. В каждой ситуации видится то спасительный выход, то ловушка, и нет никаких оснований остановиться на чём-то одном. В "Пёстрой ленте" характерным примером такого отношения к окружающему миру является отношение героини рассказа к комнате, в которую она должна была переселиться и в которой жила (и умерла) её сестра. Именно это переселение, затеянное отчимом молодой женщины под предлогом ремонта её комнаты, и стало непосредственной причиной возникновения страха. Внешне, эта комната не может представлять никакой опасности, напротив, это замкнутое помещение, в которое никто не может проникнуть извне: дверь запирается изнутри на ключ, окна защищены прочными старинными ставнями с металлическими засовами. Казалось бы, для человека, которого тревожит какая-то угроза, это наиболее безопасное место. Но если учесть, что сестра героини умерла от чего-то, что настигло её именно в этой комнате (а героиня рассказа своими глазами видела, что никто не мог проникнуть в её комнату снаружи), то замкнутость комнаты, служащая гарантией безопасности, превращается в свою противоположность: запертая изнутри комната становится ловушкой, из которой нет выхода. Поэтому, когда уже растревоженная переселением женщина слышит ночью тихий свист, напоминающий ей о той ночи, когда умерла сестра, её охватывает паника. Страшно оставаться за запертой дверью в комнате, где грозит неведомая опасность, но не менее страшно и открыть дверь, ведь опасность может подстерегать и за ней. Эта невозможность на что-нибудь решиться может быть снята только благодаря тому, что опасность будет выявлена и проведена чёткая граница между тем, что "опасно", и тем, что "безопасно". Но для этого нужно решить загадку и выяснить причину смерти сестры. Все эти рассуждения приводят к выводу: жанр детектива, несмотря на всю свою приверженность к конкретным фактам, к скрупулёзному описанию всех деталей происходящих событий, широко использует литературный приём, ведущий к тому, что описываемая реальность теряет свою однозначную определённость, и почти любой из описываемых фактов может быть поставлен под вопрос, оказываясь на грани между "есть" и "нет". При этом нужно подчеркнуть, что возникновение такой неопределённости тесно связано с основной сюжетной линией детектива и достигает своей кульминации в противоречии, выражающем детективную загадку. Здесь твёрдо установленные факты утверждают, что нечто существует, и в то же время факты удостоверяют его несуществование. Таким образом, проведённый анализ ставит под сомнение исходную позитивистскую предпосылку, на которой строится теория детективного расследования. И сам Шерлок Холмс, и, по-видимому, его автор исходят из того, что окружающая действительность (весь познаваемый Мир) состоит из "элементарных фактов", например, таких, которые описываются суждениями: "Я вижу некий предмет", "Это - пепельница", "Эта пепельница - мраморная" и т.п. Задача сыщика заключается в том, чтобы установить эти факты "как они есть", точно, без каких-либо упущений и искажений, а затем, комбинируя их и делая из них логические выводы, построить теорию, дающую возможность раскрыть преступление (так сказать, "вычислить" преступника на основе имеющихся фактов). При этом истинность теории понимается как непосредственное или опосредованное соответствие её выводов установленным фактам. Шерлок Холмс неоднократно утверждает, что основой его успехов является неуклонное следование "объективным фактам", что факты представляют собой единственный базис его логических построений и последнюю инстанцию, к которой можно апеллировать в поисках истины. Вот одно из характерных его высказываний: "...в моих правилах - не иметь предвзятых мнений, а послушно идти за фактами" ("Рейгетские сквайры"). Можно сказать, что сознательно исповедуемая Шерлоком Холмсом методология расследования близка к позитивизму, и это вполне соответствует духу той эпохи, в которую складывался жанр классического детектива. Но применяет ли Шерлок Холмс эту "научную методологию" в своих конкретных расследованиях? Мы видели, что в описываемой детективом реальности факты могут противоречить друг другу, и во многих случаях "фактичность" чего-либо может быть выяснена лишь после разрешения загадки, то есть только после этого становится ясно, что именно является "объективно существующим фактом", хотя в теории предполагается, что решение само должно базироваться на ранее установленных фактах. Ясно, что позитивистская теория Шерлока Холмса неверна (по своим же собственным меркам, поскольку она не соответствует фактическому положению дел), но если судить по его успехам, великий сыщик на практике пользуется, по-видимому, методом, который должен описываться другой теорией. Вероятно, в глубине детективного сюжета, повествующего об удачном разрешении загадки, а следовательно, демонстрирующего в действии верную методологию поиска истины, должно находиться (пусть в неявном виде) решение вопросов о том, что такое факт? как устанавливается "фактичность" чего-нибудь? что означает, если пользоваться традиционными философскими терминами, утверждение "бытия" или "небытия" чего-либо? С обыденной - "наивно реалистической" - точки зрения суждения об определённых фактах, формулируемые в виде утверждения "бытия" чего-либо, основываются на тех ощущениях, которые вызывает это реально существующее "нечто" у воспринимающего действительность человека (высказывающего суждение субъекта). Поскольку всякий объект, из которых и складывается окружающая нас реальность, обладает определёнными формой, цветом, весом, структурой поверхности, вкусом, запахом и т.п., то восприятие такого, а не иного сочетания этих признаков свидетельствует о фактическом бытии определённого объекта. Если при взгляде на лежащий на столе предмет у нас возникают ощущения оранжевого цвета, округлости, пористой шероховатой поверхности, то нет каких-то особых оснований для сомнений в том, что на столе действительно находится апельсин. Для того, чтобы лучше убедиться в этом факте, мы можем взять предполагаемый "апельсин" в руки, ощутив его вес, форму, плотность, исходящий от него специфический аромат, попробовать его на вкус, при желании даже проделать какие-то особые лабораторные исследования, удостоверяющие соответствие свойств данного предмета апельсину. Но в конечном итоге наличие определённого комплекса ощущений, вызываемых у нас объектом, подтверждает истинность нашего суждения о реальном бытии объекта. Разумеется, чтобы сформулировать такое суждение, мы должны заранее знать признаки, наличие которых при восприятии объекта позволяет назвать его "апельсином", то есть необходимо понимать значение слова "апельсин". Обучаясь в детстве родному языку, мы усваиваем значения используемых в нём слов и благодаря этому можем описывать реальность, высказывая о ней истинные суждения, понятные носителям данного языка. Ясно, что истинность многих утверждений о Мире (их соответствие реальности) не может быть непосредственно установлена в каком-либо прямом опыте. В реальности просто нет объекта, непосредственное восприятие которого позволило бы подтвердить истинность суждения: "Этот человек - профессиональный преступник". Однако предполагается, что такое "молекулярное" суждение представляет собой результат логического вывода из большого (но всё же конечного) числа "атомарных" суждений о действительности, истинность которых можно проверить, убедившись в их соответствии непосредственно воспринимаемым "атомарным фактам". Таким образом, подобно тому, как реальность состоит из физических тел, представляющих определенные комбинации молекул, а они в свою очередь состоят из определенного числа особым образом связанных между собой атомов, так и наши суждения о реальности, даже входящие в состав самых сложных научных теорий, представляют собой комбинации элементарных суждений об "атомарных фактах действительности", которые употребляются "в свёрнутом виде" для удобства пользования ими, но которые не несут в себе никакой иной информации о реальности, кроме той, что содержится во входящих в их состав "атомарных" суждениях. Однако, при более детальном анализе этой простой и, на первый взгляд, вполне ясной теории о том, как субъект обосновывает истинность суждений о бытии чего-либо, возникает ряд запутанных проблем. Одной из них является "проблема отрицательных высказываний", существующая уже очень много лет, но до сих пор не имеющая удовлетворительного решения, которое было бы совместимо с вышеизложенной позитивистской трактовкой категории "бытия". У нас нет необходимости подробно обсуждать различные попытки решения этой проблемы, и заинтересовавшийся читатель может познакомиться с историей вопроса об онтологическом статусе "небытия" в книге И.Н.Бродского[9], но, в сущности, проблема сводится к следующему: если истинному суждению "На столе есть апельсин" соответствует реальное, воспринимаемое субъектом наличие апельсина на столе, то что соответствует истинному суждению "На столе нет апельсина"? и каким образом этот элементарный факт "небытия" может восприниматься субъектом? Если "отсутствие апельсина" здесь и теперь представляет собой такой же факт ("атом" реальности), как и "наличие апельсина" (то есть реально существующий апельсин), то согласно вышеизложенной теории, во-первых, истинному суждению об отсутствии апельсина должно соответствовать определенное состояние реальности, и во-вторых, это состояние реальности должно вызывать специфический комплекс ощущений у субъекта для того, чтобы он мог воспринимать это как факт. Но кроме апельсина на столе нет бесконечного множества других объектов, и реальность, соответствующую "отсутствию апельсина", невозможно отличить от реальности, соответствующей "отсутствию чего-либо другого". Это становится очевидным, если задать себе вопрос: "Чего нет на столе?" Единственным возможным ответом на него в том случае, когда этот вопрос не связан ни с каким определённым предметом (например, апельсином), может быть суждение: "Здесь нет бесконечного множества предметов". Но это суждение истинно при любых обстоятельствах, и для его утверждения нет никакой необходимости воспринимать реальность, поскольку оно соответствует любому состоянию реальности и, следовательно, не несёт информации о фактах. Таким образом, чтобы констатировать факт отсутствия (небытия) некоторого "нечто", недостаточно простого созерцания реальности, а необходимо предварительное выделение субъектом этого "нечто" из всех других "нечто". Кажется, что это позволяет отличить суждения о "небытии" от суждений, утверждающих "бытие" чего-либо, так как утверждение "небытия" некоторого "нечто" возникает только в результате специфической познавательной активности субъекта, заинтересовавшегося именно этим "нечто". Получается, что "бытие" чего-либо и его же "небытие" по разному соотносятся с реальностью. Такой взгляд на проблему известен с древности и в восходящей к Пармениду формулировке звучит так: "Только бытие существует само по себе, а небытия в сущности нет". С сегодняшней точки зрения это может быть истолковано следующим образом. Существование какого-либо "нечто" коренится в самой реальности, являясь её элементом, и никак не зависит от того, имеет ли субъект какое-то (истинное или ложное) мнение по поводу бытия этого "нечто". В то же время статус "небытия" (несуществования) совершенно иной: оно коренится в мнении субъекта о реальности, а именно в ложном (не соответствующем реальности) мнении о существовании какого-то определённого "нечто". До тех пор, пока у субъекта не возникло мнение о том, что это "нечто" существует, и пока он не установил ложность своего мнения, обратившись к реальности, небытие этого "нечто" не присутствовало нигде: ни в реальности, где ему ничто не соответствует, ни даже в мнении субъекта, поскольку он не имел никаких мнений по этому поводу. Следовательно, "небытие" в отличие от "бытия", имеющего независимое от мнения основание в реальности, является лишь мнением о мнении, истинным утверждением о том, что некое предшествующее предположение о реальном бытии чего-либо оказалось ложным. Однако, вышеизложенный взгляд, позволяющий, казалось бы, в принципе отличать "бытие" от "небытия", неверен, и предполагаемая им "асимметричность" статуса "бытия" и "небытия" по отношению к реальности и к субъекту исчезает при более детальном анализе условий, при которых субъект устанавливает факт существования чего-либо. Действительно, тот факт, что на столе "есть апельсин", представляет собой лишь один из многочисленных "фактов", соответствующих тем ощущениям, которые вызывает данный кусочек реальности у субъекта. Фактом является не только бытие "апельсина", но и бытие "субтропического фрукта", "оранжевого шара", "подарка" и ещё множества реально существующих предметов. Поэтому, как и в случае констатации "небытия", корректным ответом на вопрос: "Что есть на столе?" можно считать только единственный ответ: "На столе бесконечное множество предметов", если заранее неизвестно, какой именно предмет интересует спрашивающего. Следовательно, чтобы воспринять любой из фактов - как наличия, так и отсутствия апельсина, - субъект должен заранее выделить "апельсин" из всех других возможных "нечто", и следовательно, бытие или небытие чего-либо становится фактом лишь как ответ на задаваемый субъектом вопрос: "Есть ли это?", причем заранее должно быть определено, что представляет собой данное конкретное "это" (его сущность). Подытожим вышесказанное: Как "бытие", так и "небытие" какого-то конкретного "нечто" не определены реальностью самой по себе, а являются результатом взаимодействия между субъектом и реальностью. Существование (или несуществование) чего-либо становится фактом, только в виде "ответа" на задаваемый субъектом вопрос. Простейшей аналогией описываемого процесса, в котором "возникают факты", может быть лист бумаги, на котором беспорядочно нанесено множество точек. Соединяя эти точки различным образом, можно получить самые разнообразные геометрические фигуры, но до тех пор, пока мы не задались вопросом: "Есть ли здесь квадрат?" и не установили, что определенные четыре точки, соединённые прямыми, образуют квадрат, нельзя сказать, что квадрат существовал на листе "сам по себе", независимо от нашего вопроса. Ведь при другом заданном вопросе эти же точки могут быть выделены в составе другой фигуры, и её существование будет так же обосновано реальным положением вещей, как и существование квадрата. В то же время при определённом вопросе может оказаться, что никакое соединение имеющихся на листе точек не образует фигуру, о которой шла речь в заданном вопросе, и следовательно, налицо реальное небытие данной фигуры. Таким образом, субъект не может "навязать" реальности существование чего-либо (оно должно быть объективно обусловлено), но задавая реальности те или иные вопросы, то есть, прилагая к окружающему определённую систему категорий и понятий, вычленяя в нём определённые предметы, их свойства и т.п., субъект формирует реальность, "создаёт" из неоформленного, обладающего бесконечными потенциями окружения ("Хаоса") некий определённый, "свой" Мир ("Космос"). Такой подход - по моему мнению, плодотворный и хорошо обоснованный - к определению категорий "бытия" и "небытия" позволяет непротиворечиво решить проблему "отрицательных высказываний". Это решение не просто подчёркивает активную роль субъекта в восприятии реальности, что соответствует современной психофизиологической теории, утверждающей невозможность любого, даже самого элементарного акта восприятия без предварительной установки воспринимающего субъекта, но совершенно меняет статус реальности по сравнению с распространенной позитивистской точкой зрения. Нет никакой "реальности самой по себе" (и следовательно, элементарных фактов, существующих "сами по себе"), в каждом "здесь и теперь" потенциально присутствует бесконечное множество реальностей, соответствующих тем категориям и понятиям ("наборам вопросов"), которые субъекты могут прилагать к этому "здесь и теперь". Это легко понять, если представить, что присутствующие на лугу корова, пчела, бактерия и человек должны находиться в совершенно разных мирах, соответствующих их способам бытия и лишь небольшими участками пересекающихся друг с другом. Теперь рассмотрим некоторые следствия такого взгляда на "бытие". В основном, они совпадают с теми положениями, на которых базируется гегелевская диалектика "бытия/небытия", изложенная в первой главе его "Логики"[10], и могут рассматриваться как истолкование - с сегодняшней точки зрения - рационального смысла используемых Гегелем категорий, как их "перевод" на более привычный нам язык. 1. Чтобы субъект мог "обратиться к действительности с вопросом" о существовании чего-либо, у него должна быть некая различающая процедура, позволяющая отличить это "нечто" от его отсутствия. Так, если в его мире имеются "кошки" и не существуют "единороги", то значит субъект умеет, встретив какое-то животное, определить, "кошка" ли это, "единорог" или ни то и ни другое. Различающая процедура не обязательно должна быть чётким, логически определённым понятием об объекте, это может быть и представление (некий образ объекта), состав и механизм функционирования которого не осознаются субъектом. Более того, различение может происходить на физиологическом уровне, то есть различающая процедура может быть задана структурой физиологического аппарата, обеспечивающего восприятие (так, строение сетчатки глаза определяет участок спектра, воспринимаемый субъектом, те цвета, в которые окрашен его Мир). 2. Содержание различающей процедуры, определяющее что именно есть данное "нечто" и устанавливающее границы, в которых оно есть и вне которых его нет, а есть "нечто иное", представляет собой "сущность" данного "нечто", то понятийное ядро, обладание которым делает конкретную вещь представителем данного класса объектов. 3. Поскольку различающая процедура задаётся субъектом, то будет ли конкретное состояние реальности соответствовать "бытию" или "небытию", зависит от того, как сформулирована процедура. Если в ней, так сказать, "поменять знаки", то "бытие" превратится в "небытие", и наоборот. Так, конкретный человек может быть описан как "слепой" (то есть ему может быть приписано наличие определённого свойства - "слепоты") и в то же время он же - при изменении различающей процедуры - может быть описан как "незрячий" (то есть то же самое положение дел может быть выражено, как отсутствие некоторого свойства - "зрячести"). Следовательно, "небытие" обладает тем же онтологическим статусом, что и "бытие", оно так же может быть причиной чего-либо, так же служить качественной характеристикой чего-либо, обладать протяженностью в пространстве и времени, любыми другими характеристиками, обычно приписываемыми только "бытию". Читатель может легко убедиться, что обыденный ("нефилософский") язык не делает различий в этом отношении между понятиями, выражающими "бытие" и "небытие". 4. Прилагая какую-либо различающую процедуру к реальности, чтобы установить существует ли интересующее нас "нечто", мы часто сталкиваемся с тем, что используемая нами процедура не даёт возможности уверенно решить, есть ли в данном случае это "нечто" или его нет. Выражаясь метафорически, мир вокруг нас не делится на "бытие" и "небытие" без остатка. Простой пример: если на столе находится плод в виде оранжевого шара со специфическим видом, запахом и т.д., мы не сомневаемся, что "апельсин" налицо. Но если его очистить и разделить на дольки, может возникнуть сомнение, "апельсин" ли это или он уже превратился в "нечто иное". Важно уяснить, что уточняя нашу различающую процедуру и распространяя её действенность на этот, а затем и другие сомнительные случаи, мы никогда не сможем дойти в этом процессе до конца и создать процедуру, позволяющую отличать "бытие" от "небытия" ("это нечто" от "иного") в любой ситуации. Построение такой абсолютной процедуры невозможно в принципе. Между "бытием" и "небытием" всегда будет находиться некая более или менее обширная область - граница, - при попадании в которую искомому "нечто" можно в равной степени приписать как существование, так и несуществование, а точнее, нет достаточных оснований ни считать его существующим, ни считать его несуществующим. Это легко доказать даже для тех случаев, когда различающая процедура осознаётся субъектом и выражена в виде логически определённого понятия: "Х существует, если выполнены такие-то и такие-то условия". Действительно, для любого термина (а следовательно, и для понятия, выражаемого этим термином) существует область определения, за границами которой применение термина неоднозначно или вовсе теряет смысл. Мы можем раздвинуть эти границы, вводя дополнительные условия и усложняя наше исходное определение "Х", но любое определение состоит из понятий, каждое из которых имеет в свою очередь собственную область определения со своими границами и т.д. Для того чтобы уточнить понятие "Х", необходимо уточнить понятия, которые участвуют в определении "Х", и таким образом, процесс уточнения исходного понятия уходит в бесконечность. Поэтому единственно возможным выходом остаётся достижение практически приемлемого уровня точности используемого понятия, оставляющее какую-то часть реальности в состоянии неразличенности, на границе между бытием и небытием. Именно эта "ничейная земля", расположенная между тем, что "есть", и тем, чего "нет", оказывается территорией, на которой происходят главные события детектива. Как мы уже говорили, всякая детективная загадка, в принципе, может быть сведена к логическому противоречию: объединению двух суждений, одно из которых утверждает существование (бытие) чего-либо, а другое - не менее истинное - утверждает его несуществование (небытие). Следовательно, пока загадка не разрешена, это "нечто" то ли есть, то ли нет, и следовательно, его онтологический статус (его отношение к бытию) остаётся неопределённым. Необходимо подчеркнуть, что речь идёт не о нашем знании (незнании) истины, а о фактическом состоянии вещей. Нельзя сказать, что нам не хватает какой-либо информации для того, чтобы решить, существует ли искомое "нечто" или не существует, скорее можно говорить об избытке имеющейся информации. Если бы у нас было подтверждение лишь одного (любого) из образующих противоречие суждений, а другое оказалось бы ложным, то истинное суждение неоспоримо свидетельствовало бы о том, что бытие (или небытие) этого "нечто" является не только нашим мнением, но и фактом. Именно в этом и заключается "истинность" данного суждения. Но поскольку истинны оба суждения, то есть оба они соответствуют фактам, то, следовательно, возникшая неопределённость бытия указанного "нечто" действительно существует, она такой же факт, как и факты "бытия" и "небытия". Более того, если мы отбросим одно из противоречащих друг другу суждений и будем, как это делает Лестрейд, считать истинным только одно из них, то оно перестанет быть частью реальной картины мира и как раз превратится в субъективное мнение, произвольно отбрасывающее те факты, которые нас почему-то не устраивают. Мы знаем, что снятие противоречия и разрешение детективной загадки происходит благодаря изменению нашей точки зрения на происходящее, то есть благодаря использованию других (изменённых) понятий. Если они выбраны адекватно решаемой загадке, то их применение не приводит к противоречию и позволяет с достаточной определённостью судить о существовании или небытии интересующего нас объекта. Следует ещё раз подчеркнуть, что речь идёт не только об изменении наших взглядов на продолжающую оставаться сама собой реальность, но о действительном изменении реальности. Изменяется не только наше знание о фактах, изменяются сами факты. Это и не может быть иначе, поскольку факты, как уже обсуждалось ранее, являются "ответами" на определённые "вопросы" (роль которых играют понятия). Такое понимание реальности, безусловно, несовместимо с позитивистской теорией, исходящей из существования независимых от субъекта "элементарных фактов", но оно хорошо согласуется с принципами построения детективного сюжета, в которых имплицитно заключается именно такой взгляд на Мир и на его познание. Сколько бы не клялся Шерлок Холмс (и его автор) в верности "научной методологии" своего времени, на деле детектив следует не за этой теорией, а за жизнью, потому что в противном случае ему пришлось бы расстаться с диалектикой и перестать быть самим собой. Разумеется, происходящее в детективе изменение понятий, необходимое для разрешения загадки и приводящее к изменению фактов, составляет лишь ничтожно малую величину по сравнению со всем объёмом используемых понятий. Но теоретическое значение этого процесса огромно. То, что верно для любого самого малого участка реальности, тем самым верно и для реальности в целом. Тогда неизбежен вывод: реальность существует такой, как она есть, потому что таковы наши понятия. И тогда, вслед за Гегелем, мы должны признать, что основу реальности образует всеобъемлющая система взаимосвязанных и взаимокоординированных понятий (гегелевская "абсолютная идея"), без которой реальность не может существовать, без неё она попросту немыслима, как немыслим ответ на незаданный вопрос. Идея первична по отношению ко всей реальности, в том числе и по отношению к природе. Какими бы объективно сущими, имеющими своё собственное бытие, не казались материальные предметы, составляющие природу, анализ вынуждает нас признать, что природа (не природа как некая "вещь в себе", а реальная природа, с которой мы имеем дело, в которой есть камни, собаки, березы, ускорения, электроны и т.п.) является в этом отношении чем-то вторичным, "отражением" существующей системы понятий, "инобытием идеи". Чтобы наглядно представить себе насколько наш мир зависит от имеющихся у нас понятий, стоит вспомнить как много вещей этого мира обладают статусом "небытия". Не существуют все события и факты прошлого и будущего, персонажи мифов, сказок, художественной литературы, не существуют предметы, события и состояния, являющиеся содержанием наших планов, мечтаний и идеалов, нет множества предметов, которые могли бы быть в определённом месте, но которых там нет, и т.д. и т.п. По-видимому, в нашем мире гораздо больше несуществующих предметов и фактов, чем налично существующих. Этих предметов в действительности нет, но тем не менее эта наша действительность такова, что в ней есть, фигурально выражаясь, "зарезервированные для них пустые места" - эти факты можно представить существующими в нашем мире. Можно представить себе некий гипотетический мир, в котором сегодня существуют Сократ и Иван Грозный, боевые колесницы, русалки, Анна Каренина, бесплатные завтраки, треугольные груши и ещё многое другое, чего нет в нашем мире. Конечно, наш реальный мир сильно отличается от этого, существующего только в нашем предположении, но легко увидеть, что ещё больше отличался бы от нашего тот мир, в котором не существовало бы даже понятий этих предметов. Если попытаться истолковать с нашей сегодняшней точки зрения гегелевское понимание "идеи" как логической первоосновы всего сущего, то наиболее адекватным для этого понятием является, на мой взгляд, понятие "язык". Язык существует до индивидов, которые им пользуются, и независимо от них. В этом смысле он представляет объективную данность и не может быть произвольно изменён субъектом. Правила и состав естественного языка не являются результатом общественного договора между субъектами - носителями языка или конвенции, принятой каким-то людским коллективом. Рождаясь на свет, каждый индивид застаёт мир в уже сформированном виде: в этом мире для всего, с чем сталкивается ребенок, существуют определенные понятия и соответствующие им слова и языковые обороты, все вещи уже имеют "правильные имена". Здесь стоит вспомнить, что проблема возникновения понятий - понимаемых как "имена сущего" - существовала в сознании людей всегда, и решалась, надо сказать, методологически верно. Люди чувствовали, что то, что не названо, не определено как конкретный, имеющий собственное имя предмет, не может быть воспринято, оно неуловимо, расплывчато, не имеет устойчивого бытия, а следовательно, на него невозможно воздействовать. С другой стороны, люди понимали невозможность произвольного наименования вещей - дескать, как захотим, так и назовём, - такое обращение возможно только с какими-то незначительными предметами, но совершенно неприемлемо для существенных, важных в жизни человека вещей. Медведь останется медведем, как ты его не называй, и, если ты хочешь верно действовать по отношению к этому опасному зверю, ты должен знать его истинное имя - "медведь". Поэтому архаическому мировоззрению и мифологическим представлениям самых разнообразных народов присуще убеждение, которое по аналогии с "наивным реализмом" можно обозначить как "наивный идеализм": вещь не может существовать, не имея имени (понятия, определяющего её сущность; её идеи), и сотворение мира по необходимости сопровождается наименованием вещей. Поскольку люди (конкретные индивиды) не могут давать вещам имена - люди рождаются в мире, где всё, что существует, уже имеет свое имя, - то эта функция приписывается богам, демиургам, первопредкам человека (так в Библии имена животным даёт Адам), лицам с необыкновенными эзотерическими способностями, обладающим сакральной силой креации (= наименования) вещей. "Сама деятельность жреца, шамана, поэта ... осознаётся как освоение мира словом: через имянаречение элементы мира вызываются из небытия к бытию, из Хаоса в Космос и усваиваются коллективом"[11]. Для того, чтобы мир, описываемый языком, стал миром для тебя, ты должен только усвоить язык, то есть научиться пользоваться системой содержащихся в языке понятий. Как гегелевская "абсолютная идея" не создаётся мыслителями, не является продуктом деятельности философов, а мыслительная деятельность индивидуальных субъектов (философия) может быть лишь путём осознания этой идеи и, тем самым, самосознания субъективным мышлением своей собственной объективной основы, так и язык, не являясь результатом индивидуального творчества, уходит корнями в предысторию человечества и представляет собой творение человеческого общества в целом (рода "Человек"). В каждый конкретный момент времени язык (понимаемый широко, как любая знаковая система) существует независимо от произвола индивидуумов - носителей данного языка - не они являются его творцами, напротив, это он, в какой-то мере, творит их, поскольку является необходимым объективным условием не только общения людей, но и их мышления и ориентировки (а, следовательно, и осмысленной деятельности) в окружающем мире. Каждый конкретный человек и любое конкретное сообщество людей могут только осознать (выявить) содержащуюся в языке систему категорий и понятий, но, так как язык образует логический (понятийный) "каркас" человеческого мира, люди не могут отказаться от языка или изменить его, для них это означало бы расстаться с разумом и разрушить свой собственный мир. Получается вполне гегелевская схема: язык (= идея), как некая всеобъемлющая категориально-понятийная идеальная (нематериальная) система, существует объективно (= независимо от познающего субъекта) и является необходимым условием (а можно сказать, и креативным источником) формирования Мира - как Природы, так и Человека. Если это правильно, то из этого можно сделать два вывода: 1. Так как язык (божественное Слово, Логос), будучи первоосновой и первообразом Мира, формирует Природу и Человека по своему образу и подобию, то, изучая строение языка и существующие в нём взаимосвязи, можно очень многое узнать, если не о реальном наличном состоянии Мира, то, по крайней мере, о конструкции реальности, что, по-видимому, и является самым главным знанием о ней, поскольку говорит не об изменчивых конкретных фактах, но об устойчивых постоянных закономерностях, связывающих эти факты. Этот методологический подход можно считать присущим европейской философии с самого её появления на свет, если вспомнить "Диалоги" Платона и описанный в них майевтический ("повивальный") метод Сократа, который считал, что всякое познание есть припоминание, потому что в душе каждого человека (как носителя языка, уточним мы) имеется в скрытом зашифрованном виде (имплицитно) знание обо всём сущем, и чтобы получить его в явном и готовом для осознанного использования виде (эксплицировать), нужно только помочь ему "родиться" на свет из глубины души, для чего Сократ применял исследование смысла слов (то есть соответствующих словам понятий), в которых скрывалось искомое знание[12]. Современная философия широко использует подобные методы, и значительная часть направлений философских исследований ХХ века (в том числе, как это ни парадоксально, и многие позитивистски ориентированные течения, стремящиеся поставить философию на строго научную почву эмпирического опыта, приблизить её к уровню экспериментальных наук) может быть отнесена к "философии языка", причём эти исследования плавно переходят в теоретическое языкознание, в сугубо лингвистические и филологические работы. 2. Существование многих естественных языков свидетельствует о существовании разных (отличающихся даже в физическом отношении) миров, в которых живут люди, говорящие на этих языках. Причём отличие одного мира от другого тем больше, чем сильнее отличаются друг от друга соответствующие языки. Даже близкородственные языки не полностью изоморфны друг другу, это значит, что различия между двумя языками не сводятся к тому, что одно и то же понятие обозначается в них различными словами (различными наборами звуков). Суть дела в том, что сходные понятия в разных языках только сходны, но не идентичны, они отличаются как способами их определения (различающими процедурами), так и по объёму, поскольку их объёмы, как правило, не совпадают, а лишь частично пересекаются. Так, например, не все предметы, которые по-русски называются "стол", обозначаются английским словом "table", часть из них называется по-английски "desk". В свою очередь, из предметов, обозначаемых словом "table", часть называется в русском языке словом "стол", а часть - словом "доска". Таким образом, каждый язык по-своему выделяет предметы и по-своему конструирует мир, поэтому сетка категорий и понятий другого языка не может быть наложена на этот мир без искажений. Примером того, насколько обусловленный языковой практикой способ выделения в окружающем отдельных вещей, фактов, событий не осознаётся субъектом и кажется ему естественным свойством самих вещей, может быть случай, описанный Леви-Брюлем в его известной книге "Первобытное мышление"[13]. Исследователь, изучающий жизнь и обычаи первобытных народов, выясняет, что его собеседник туземец племени бороро считает себя и своих соплеменников красными арара (то есть попугаями вида "арара"), при этом он считает, что между членами его племени и попугаями имеется тождество по существу. "Ты хочешь сказать, что попугаи - это тотемные животные вашего племени?" - пытается уточнить исследователь. "Да, - показывая на попугая, отвечает туземец, - и он, и я, мы все - арара". Когда ему указывают на различия, существующие между ним и птицей, туземец соглашается, что, действительно, люди его племени и попугаи его племени несколько отличаются друг от друга. Он осознаёт эти отличия, но продолжает утверждать, что тем не менее все они члены одного рода: все они - арара. Леви-Брюль делает из этого и других подобных описаний вывод о том, что архаическое ("пра-логическое") мышление устойчиво к противоречиям, в нём объектам могут приписываться противоречивые характеристики ("люди" не такие, как "попугаи", и в то же время "люди" есть "попугаи"), и этим оно принципиально отличается от нашего (цивилизованного) "логического" мышления. Вывод очень сильный, но он основан на недоразумении, обусловленном "наивным реализмом" автора, который не может выйти за пределы своего привычного взгляда на мир, хотя его сознательно поставленная себе задача и состоит в том, чтобы сравнить свой и чужой способы мышления, как бы посмотрев на них со стороны. Чтобы убедиться в этом, достаточно произвести вышеприведённую процедуру с самим исследователем и спросить его: "Вы - человек? А вот эта женщина - тоже человек? А вот этот ребенок в колыбельке? Разве вы не видите между ними и собой различий? Как вы можете называть всех одним и тем же словом, не противореча себе?" Ясно, что непонимание между этими двумя субъектами объясняется в данном случае не различиями в логике, а тем, что в мышлении и языке туземца есть понятие, объединяющее определённых птиц и определённых людей в одно множество, а в языке европейца такого понятия нет. Связь между языком народа и миром, в котором живёт этот народ, замечена давно; автор основополагающего в этой области сочинения[14] знаменитый антрополог и лингвист Вильгельм Гумбольдт был современником Гегеля. Гумбольдт писал: "Тем же самым актом, посредством которого человек из себя создаёт язык, он отдаёт себя в его власть; каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Изучение иностранного языка можно было бы поэтому уподобить приобретению новой точки зрения, в прежнем миропонимании... и только потому, что в чужой язык мы в большей или меньшей степени переносим своё собственное миропонимание и своё собственное языковое воззрение, мы не ощущаем с полной ясностью результатов этого процесса". В дальнейшем это воззрение развивалось многими языковедами и философами и в середине нашего века получило наиболее яркое своё выражение в гипотезе "лингвистической относительности" Сепира-Уорфа, названной по именам её авторов[15]. На этом мы можем закончить наше длительное отступление от детектива, связанное с обсуждением абстрактных вопросов, которые не имеют прямого отношения к построению детективного сюжета. Теперь можно подытожить результаты наших рассуждений и оценить их значение для понимания детектива. В своём первоначальном описании детектива мы исходили из того, что центральным мотивом любого детективного сюжета является поиск истины. Выяснить истину - это значит установить, как фактически обстоит дело, то есть каким-то способом установить интересующие нас факты. В данном понимании, "истина" - это характеристика суждения, утверждающего факт. То, что соответствует фактам (реальности), то и истинно. (Это совпадает с происхождением слова, обозначающего истину в русском языке: "истина" = "то, что есть"). Но при анализе детектива нами было установлено, что как тезис, так и антитезис противоречия, образующего детективную загадку, истинны, то есть оба они соответствуют фактам. Более того, истинно и суждение, снимающее диалектическое противоречие (синтезис). Поскольку разрешение диалектического противоречия объясняется изменением исходной точки зрения (изменением используемых понятий), то можно сказать, что изменение понятий изменяет факты. Это несовместимо с нашим исходным наивно реалистическим убеждением в том, что понятия, которыми оперирует субъект, лишь "отражают" - с большей или меньшей степенью достоверности - объективную реальность, которая слагается из множества элементарных фактов, обладающих самостоятельным, независимым от субъекта и его понятий, бытием. Проведённый здесь анализ категории "бытия" убеждает нас в том, что факты не могут существовать вне определённой системы понятий и что не столько понятия "отражают" факты, являясь проекцией фактов в сознании субъекта, сколько факты являются "отражением" понятий, поскольку они представляют собой результат проецирования имеющихся у субъекта понятий на окружающий его мир. Выражая это другими словами: "фактичность" представляет собой не свойство, а отношение. То есть, как нельзя сказать "Х больше", но можно - "Х больше Y", так же нельзя говорить "Х - факт", а следует говорить "Х - факт в такой-то системе понятий". Этот - диалектический - взгляд на "бытие" не находит явного выражения в детективе (для этого он слишком удалён от описываемых конкретных событий, является слишком абстрактным), и его присутствие "в глубине событий", "в подтексте" повествования проявляется лишь в особой эмоциональной атмосфере, характерной для классического детектива. Но он совершенно необходим для существования этого жанра, так как отказ от него и переход на отвергнутую нами позитивистскую точку зрения означал бы невозможность детективной загадки и, следовательно, принципиальную невозможность построения "правильного" детективного сюжета.
Окончание
|
Главная |